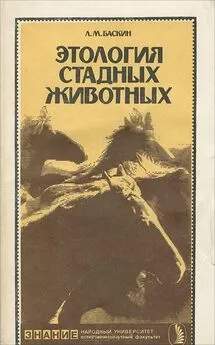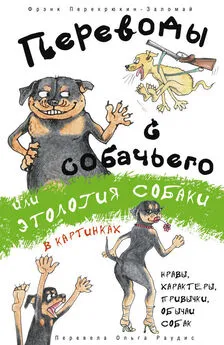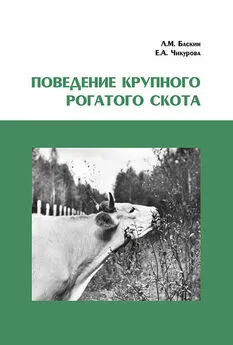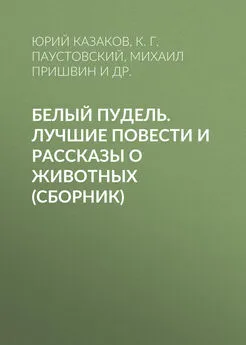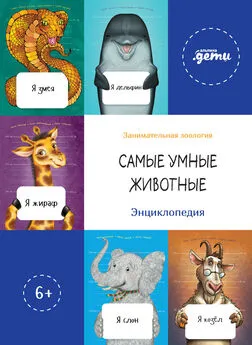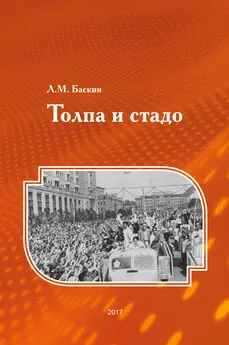Леонид Баскин - Этология стадных животных
- Название:Этология стадных животных
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Знание
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Баскин - Этология стадных животных краткое содержание
Книга посвящена новому направлению прикладной этологии: изучению особенностей и закономерностей поведения стадных животных как основы пастушеского дела. Приобретение знаний в этой области науки, несомненно, актуально для работников животноводства, учителей, учащихся сельских школ.
Этология стадных животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рекомендовать такой прием как способ борьбы с уходами отары я все же не мог. Ведь нарушалось самое главное — пастьба овец. Им лучше жилось, когда отара сохраняла свой естественный строй.
Мне уже приходилось убеждаться, как чутко следят овцы за тем, чтобы не остаться в одиночестве, как не забывают ни на миг, где отара, где соседи. Пытаясь получше узнать, как они ориентируются, я с помощью пастухов завязывал овцам глаза. Мы надели овцам платочки, словно богомольным старушкам, и этим сильно озадачили их товарок. Тотчас к подопытным животным стали собираться овцы, не только заинтересованные, но и испуганные и нарядом, и поведением «ослепленных овец». А те, помотав головой, сначала бестолково шли, куда несли ноги, но, отойдя от отары, тотчас чувствовали это — может быть, по шуму или по запаху, — возвращались обратно. Через полчаса они привыкали к такой «слепой» жизни, держались все время с подветренной стороны от отары, явно ориентируясь по запаху.
Чабаны рассказывали мне, что весной, когда сияние солнца тысячекратно умножается снегами, случается, овцы слепнут. Однако они подолгу выживают в отаре, находя ее по запаху, отыскивая обонянием и на ощупь корм.
Манас и Киик, конечно, заметили мои старания помешать возникновению в отаре токов. Они с большим интересом наблюдали, удаются ли мои попытки. Однако их тревожило, что овцы стали меньше есть, больше ходят с места на место, беспокоятся. В конечном итоге мы приводили отару в горы не для того, чтобы управлять ею или проводить эксперименты. Овцы должны были пастись.
Однажды во время отдыха мы, как обычно, развели костер, занялись чаевкой, но я то и дело прерывал отдых, все старался помешать передовым овцам уйти в сторону, увести за собой отару.
— Пускай идут, — вступился за отару Манас. — Здесь широкое место, пусть живут, как хотят.
Я не огорчился. Напротив, мне годился любой поворот событий. Возможность распустить отару давала еще одну возможность для наблюдений и выводов. Когда в очередной раз среди овец началось движение, обгоняя друг друга, они уходили все дальше к зубчатой пиле скал, я не вмешивался, хотя и был настороже, держал наготове записную книжку. Все большее число овец выстраивалось вереницами.
Отара шла вперед и в то же время расходилась в стороны. Вскоре она приобрела форму дуги. Выйдя вперед или на край отары, овцы начинали было пастись, но масса других овец, еще оставшихся сзади, теснила их. Группки овец — по две-три вместе — быстро расползались по пологим склонам, пока каждой из них не досталось свободное местечко. Отара разошлась вширь на километр. Вслед за передней дугой метрах в пятидесяти позади возникла вторая, а потом еще и третья. Я наблюдал то же явление, что и в Бадхызе у архаров.
Движение отары прекратилось само собой. Она разошлась очень широко, группы овец спустились в ложбины, затерялись среди скал.
— Знаешь эти места, не потеряем овец? — спросил я Манаса.
— Немного знаю, — отвечал он. — Раньше чабаны подолгу здесь жили, не ходили вниз.
— Что ж теперь?
— Теперь там дом, там подкормка для овец.
— Хорошо это?
— Для меня хорошо, для овец плохо. Впрочем, для овец тоже неплохо, — поправился он. — Чем самим корм собирать, лучше дома есть. Раньше больше скота в этих местах пасли. Теперь другое время. Никто высоко в горах жить не хочет, дома привыкли. И овцы привыкли, в кошару хотят.
Сравнение «раньше» и «теперь» частенько становилось темой наших разговоров. Чабаны уважали «раньше» за то, что люди трудились тогда больше, а ведь это были их отцы и деды. Многое из того, что они делали, казалось теперь непосильным, немыслимым. Вдоль склонов, перебираясь через довольно высокие хребты, тянулись арыки орошения. Раньше в горах сеяли ячмень и, говорят, получали неплохие урожаи. Эти арыки копали многие годы, конечно, вручную. Казалось, такая работа посильна только богатырям. И чабаны пасли тогда выше, больше жили в горах лучше знали их, бережливей использовали. И причиной тому была тоже нужда, нехватка пастбищ. Ведь лучшие земли принадлежали кулаку. Но теперь, когда ни голод, ни сила не властвовали над людьми, они с сожалением вспоминали о подвигах дедов и хотели сравниться с ними трудом, умением.
Я давно собирался в Дараут-Курган по своим делам. Теперь предстояло еще выхлопотать для отары Кийка и Манаса больше подкормки.
Вместо моего молодого конька Киик дал своего.
— Даже если спишь, он сам довезет. Прямо к моему отцу привезет, скоро чай, барашка кушаешь, большой живот имеешь, — напутствовал меня чабан. Огорчения не портили его веселого, насмешливого нрава.
Действительно, поездка прошла удачно. Конь хорошо знал дорогу, сам выбирал, где пуститься вскачь, где семенить шагом. И дом Мойдуновых в поселке он нашел очень уверенно. Нигде меня не побеспокоил, только приветствовал ржанием других коней, стоявших оседланными почти у каждого дома. Такой здесь был обычай — ста шагов не ходить пешком.
На постой я устроился в гостинице. Приведя себя в порядок, отправился на почту и, подбодренный письмами из родной Москвы, дальше — в контору совхоза, столовую, кино.
Под вечер в гостинице стало шумно, прибыли гости: из Совета Министров Киргизии, обкома и райкома. Все вспоминали трудную, но интересную дорогу. Сначала грозные перевалы, а потом величественная панорама долины, слева от которой возвышался Памир, а справа Алайский хребет, не могли не запомниться, не породить массу мыслей.
Рано или поздно заговорили о судьбах местного овцеводства. Ему повезло, замечательный ученый, направлявший овцеводство Киргизии, Михаил Николаевич Лущихин — понимал, какими должны быть овцы, способные освоить эти края [10]. Он вывел породу киргизских тонкорунных овец, скрещивая привозных овец с местными и отбирая на племя ягнят высоконогих, легких, прыгучих, не боящихся мороза и ветра, сытых на скудных пастбищах. Но меня подкупало, что Михаил Николаевич ценил и местную киргизскую породу овец, помог ее сохранить и улучшить. Он понимал, что в условиях Алая нужны овцы особые, чемпионы по приспособленности, те, что выжили после сотен лет жесткого отбора. Среди алайских овец особо ценятся белые овцы, их шерсть замечательна для тканья ковров. Ильяс Ботбаев, ученик Лущихина, посвятил алайским овцам свою работу и жизнь.
Среди разговоров о том, о сем я не забыл попросить подкормку для овец нашей отары. Рассказ о молодых братьях-чабанах, об их мечте стать лучшими порадовал всех тем, что растет молодая смена пастухов.
Опасное пастбище

Мы выехали из кишлака около десяти часов утра. Овазбек, не торопясь, трусил впереди на черном жеребце, что-то напевал, а умолкнув, поворачивался ко мне и спрашивал: «Ну как? Не устал?» Черные усы словно перечеркивали его лицо, придавая выражение лихости и уверенности в себе. Овазбек возвращался к своему стаду яков. Я еле уговорил его взять меня с собой. Теперь я старался быть ему как можно более легким спутником.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: