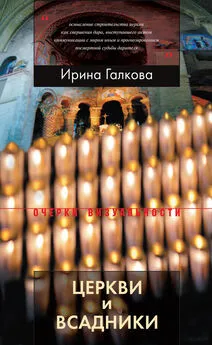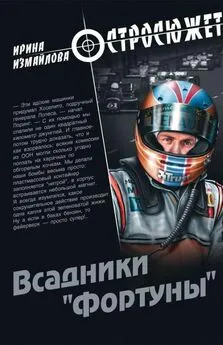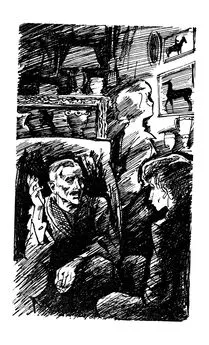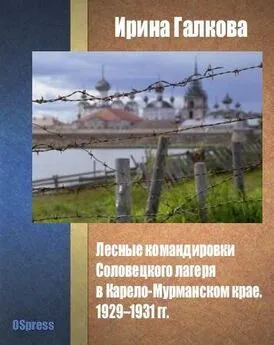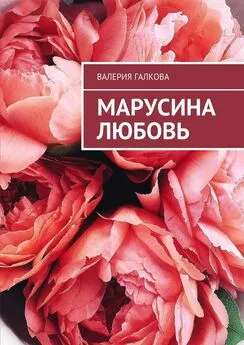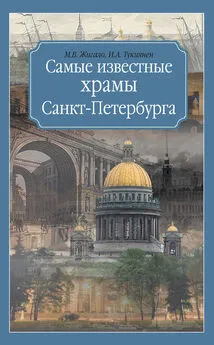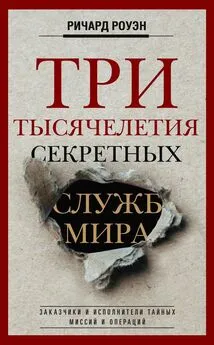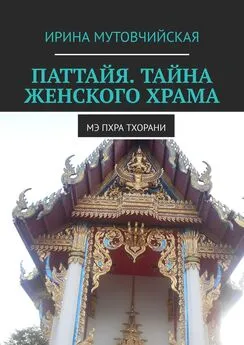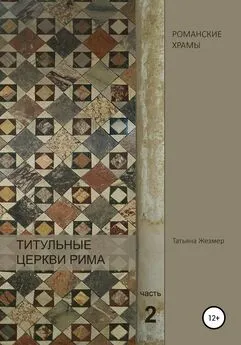Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Название:Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики краткое содержание
И.Г. Галкова – искусствовед, медиевист, кандидат исторических наук (Институт всеобщей истории РАН). Ее книга представляет собой попытку реконструировать ситуацию создания двух романских церквей в регионе Пуату – Сен-Пьер в Ольнэ и Сент-Илер в Меле. Два конкретных случая рассмотрены на фоне общего анализа интенций и действий заказчиков церквей XII века, запечатленных в текстах дарственных грамот, хроник, писем, надписей и впервые систематически изученных в таком ключе. В целом исследование выявляет процесс становления в европейской культуре феномена родовой церкви, которая в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени станет практически непременным атрибутом репрезентации рода для высших кругов аристократии.
Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кроме непосредственно оборонительного значения башня была исключительно важна как наблюдательный пункт, а также как средство быстрого оповещения окрестных жителей и их ориентации во времени (поскольку служила колокольней). Иначе говоря, она была важнейшим инструментом контролирования жизни региона и управления им. С этой функцией (а также, видимо, и с чисто визуальным эффектом доминирования над всеми окружающими постройками) связана и символическая значимость башни как репрезентации власти. Так же как замковая и монастырская башни или башня городской ратуши символизировали власть, осуществляемую на определенной территории, башня частной церкви олицетворяла власть над прилежащими к ней угодьями и связанные с ней права. При передаче церкви монастырю ее территории становились монастырскими, а сама церковь – подчиненной. Башня как визуальное воплощение независимой власти делалась неуместной. Более того, ее существование ставило под угрозу установленный порядок вещей: находясь на своем месте, она продолжала оставаться центром того хозяйства, которое теперь утратило автономность, и в случае ее захвата вся «церковь» как хозяйственная единица оказалась бы утраченной. Кроме того, само наличие башни и прочих фортификационных элементов – если они имелись у здания – делало возможным его военный захват и оборону.
Вероятность захвата башни, а с нею и церкви была вещью вполне реальной и прогнозируемой: случаи насильственного возвращения церквей их бывшими владельцами были отнюдь не редки [537]. Попытка такого захвата, судя по всему, имела место в Муассаке в 1130 г. Об этом происшествии свидетельствует грамота, запечатлевшая судебное разбирательство тулузским графом распри двух аббатов Муассака – светского (мирянина-покровителя) и регулярного (собственно настоятеля монастыря) [538]. Надо сказать, что аббатство в середине XI в. было реформировано и присоединено к конгрегации Клюни, а тогдашний светский аббат отказался от прав в отношении Муассака за себя и за своих наследников [539]. Однако в течение последующих семидесяти с лишним лет покровители-миряне неоднократно пытались вернуть свои права, и описанный ниже случай – последнее значительное событие в череде таких притязаний. Поскольку башням монастыря [540]в конфликте уделено специальное внимание, остановимся на этом случае несколько подробнее.
Светский аббат Бертран де Монтасе захотел, чтобы ему «вернули» (ut redderent) церковь и колокольни монастыря, чему воспротивился регулярный аббат Рожер, поддерживаемый жителями Муассака. В ответ на что Бертран, видимо, предпринял попытку вооруженного захвата обители, поскольку в грамоте указано, что к графскому правосудию стороны обратились только «после многих бед, причиненных из-за этого» (post multa mala inde facta). Свидетели разбирательства показали, что Бертран захватил власть в городе Муассак, который до этого находился под контролем монастыря. Граф решает спор в пользу церковного аббата Рожера [541].
Очевидно, что речь в документе идет не только о захвате собственно монастырских построек, но и о той власти, которую они собой символизировали – захват монастыря означал ее смену во всем городе. Неслучайным кажется и отдельное упоминание колоколен: их захват представляет несомненную важность наряду с захватом самого здания церкви. В заключительной формуле, устанавливающей правосудие, вновь оговаривается, что светский аббат впредь не должен притязать ни на церковь монастыря, ни на его колокольни [542].
Переход частных церквей под контроль церковных институций являлся одним из главных положений церковной реформы, и возможность реставрации власти светского сеньора с ее внедрением постепенно сводилась на нет. Именно в этот период запрет на фортификацию церквей закрепляется в церковном законодательстве; в разрешениях на строительство церквей конца XI – начала XII в., выдаваемых епископами и аббатами, становятся особенно часты оговорки о том, что возводимое здание не должно иметь военных укреплений и колокольни [543]. Между тем светские заказчики по инерции продолжали желать сооружения этих элементов.
Намерение графа Ги-Жоффруа выстроить входные башни в Монтьернеф наглядно это демонстрирует – он действует так же, как его предшественники, строившие частные монастыри. Однако Монтьернеф уже в процессе строительства принадлежал Клюни, и тот факт, что после смерти графа план постройки оказался изменен, думается, свидетельствует об этой изменившейся ситуации.
Вышеупомянутый конфликт светского и церковного аббатов Муассака, по всей видимости, был связан не только с военным захватом башни и церкви, но и с намерением покровителя-мирянина перестроить башню, укрепив ее и оснастив фортификационными элементами. Из эпитетов, применяемых в отношении колоколен (facta vel facienda), можно заключить, что в одной из них на момент конфликта велись строительные работы. Массивная западная стена сохранившейся входной башни-колокольни Муассака и пояс оборонительных укреплений на ее втором ярусе датируются первой третью XII в. ( илл. 5.1 ), то есть временем, соотносимым с моментом распри [544]. Вероятно, своеволие светского аббата затронуло и архитектурный облик монастыря – вряд ли эти детали можно приписывать инициативе прелатов; их вмешательство было направлено скорее на то, чтобы лишить эти новшества их функциональности. Знаменитый портал Муассака в его окончательном виде был создан примерно в это же время, причем нетрудно заметить, что большая открытая ниша, в которой расположен скульптурный ансамбль ( илл. 5.2 ), врезанная в защитную стену с южной стороны, значительно ослабляет фортификационные качества башни и фактически обессмысливает ее военные укрепления. Вероятно, этот проект был реализован после того, как аббат Рожер одержал победу в споре со своим светским оппонентом, и явился воплощением его понимания роли главной монастырской церкви. Скульптурный портрет Рожера ( илл. 5.4 ), венчающий ансамбль портала, – свидетельство его триумфа в отношении как управления монастырем, так и авторства в перестройке его главной церкви.
Сама башня, как видим, в случае Муассака была оставлена. Но, как следует из череды других случаев, колокольня действительно нередко подлежала упразднению на стадии замысла или разрушалась. Конечно, это могло быть сопряжено не только с желанием устранить объект возможных притязаний светского патрона, но и с ветхостью конструкции, и с ее неудобством. Так, к примеру, аргументирует свое вмешательство аббат Сугерий, который в процессе реконструкции Сен-Дени тоже уничтожил аван-неф, выстроенный при Карле Великом [545].
Стоит отметить, что во всех упомянутых случаях упразднение башни (как проектируемой или возможной, так и уже существующей) или ее трансформация происходили по воле деятелей церкви, в согласии или в конфликте с пожеланиями мирян. Такое вмешательство в авторские интенции мирян-заказчиков можно назвать знамением времени и отметить как одну из конкретных форм ограничения их свободы самовыражения и роста значимости организующей роли заказчиков-прелатов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: