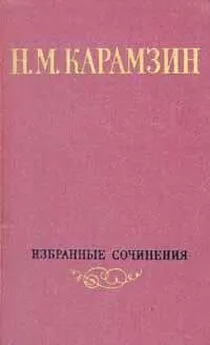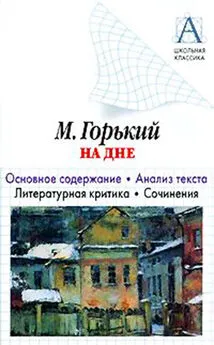Николай Чернышевский - Том 3. Литературная критика
- Название:Том 3. Литературная критика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда, Огонек
- Год:1974
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Чернышевский - Том 3. Литературная критика краткое содержание
В третий том Собрания сочинений русского революционера и мыслителя, писателя, экономиста, философа Н. Г. Чернышевского (1828-1889) вошла литературная критика.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Литературная критика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно так же имеют большой психологический интерес факты, наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою, а не от внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив, когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком резкими впечатлениями, он впросонках обнаруживает тревожную и очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв и мускулов довольно скоро успокоивается, так что не стоит обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что психология находит довольно опасною вещью неосторожное обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми в свидетельство того, что могут происходить действия решительно без всякого предшествующего сознания надобности этих действий, даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого клонится действие. Наука находит очень много свидетельствующих о том фактов и во всяких других проявлениях жизни. Возьмем в пример немецкий обычай кушать бутерброды. Почтенные немцы, придумавшие эту вкусную вещь, решительно не знают, почему надобно им кушать хлеб со сливочным маслом, — они дошли до этой выдумки совершенно машинально. Но в недавнее время наука открыла, что хлеб сам по себе переваривается желудком не очень легко, а сливочное масло даже очень трудно; когда же два эти питательные вещества смешиваются, то вместе перевариваются они желудком гораздо [легче], чем каждое из них в отдельности. Таким образом, сознательная причина для делания бутербродов открыта очень недавно, а немцы кушают бутерброды с незапамятных времен, и до недавнего времени почти никто из них не умел, да и теперь еще почти никто не умеет отдать себе отчет в том, почему ему понравилось кушать бутерброды; но это, повторяем, никому из них не мешало и не мешает любить бутерброды.
Мы приводили примеры мелочные; но для науки мелочные факты приобретают иногда очень важное значение, служа ключом к разъяснению важных явлений исторической жизни. Так, например, Бокль сделал замечательную попытку разъяснить характер индийских учреждений и истории качествами риса, служащего обыкновенного пищею индусов. Почему же нам не заниматься размышлениями о бутербродах и мухах, и назовет ли читатель опрометчивым самохвальством, если мы скажем что из этих наблюдений извлекаются два вывода, важные для исторической психологии:
Во-первых, летаргическое состояние умственной жизни не мешает физическим действиям для удовлетворения физиологических нужд; во-вторых, можно получить наклонность к предмету, не имея отчетливого сознания о нем.
На основании этих выводов мы скажем, что, если, например, масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это еще не дает нам права отрицать в них способность проникнуться наклонностью к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к приобретению этого лучшего неведомого ей состояния.
Читатель понимает, о каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как доказывают почти все приверженцы народных школ, — люди, пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно, шли мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды, что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался он безграмотен; самая продолжительность безграмотного состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо устремится вознаградить потерянное время.
Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения служит причиною перемен в жизни дюжинных людей. Если не ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей лишенных инициативы, встречаются люди энергического ума и характера, способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно, потому, что он поставил себе целью знакомить нас с господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно преобладала рутина дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось влияние людей, имеющих в себе силу инициативы. Но нельзя сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбатых и, с другой стороны, не было бы людей, очень стройных, очень красивых и очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно ни для кого, имевшего случай знакомиться с простолюдинами. Кто сближался с ними, наверное встречал между ними людей, поражавших его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же не имели они до сих пор влияния на жизнь массы, и способна ли она подчиниться ему? Почему не имели, на это можно отвечать знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон и т. д.
В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий играть на биллиарде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает почему: каждый человек занимается любимым делом или действует сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о людях, способных к инициативе, для которой непременно нужно, кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля». Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не знаем; он, кажется, нянчит ребенка, болтает с женой, охотится за сернами, — словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии. Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека, который через минуту погиб бы, если бы не увез его Телль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: