Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]
- Название:Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке] краткое содержание
Среди авторов этого сборника известные писатели — Ю. Карякин, Н. Шмелев, О. Чайковская и другие.
Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
13
А впрочем, были психологические феномены, одной борьбой за существование едва ли объяснимые.
…К слову, не могу отказать себе в тщеславном удовольствии коротко вспомнить, как мне нечаянно удалось спровоцировать незабвенного Михаила Аркадьевича Светлова на одну из блистательнейших его острот. В Малом зале ЦДЛ шло шумное заседание. Тонкоголосо требовал что-то осудить Александр Безыменский. Его толстоголосо поддерживал Александр Жаров. Было объявлено, что следующим выступает Григорий Бровман. С чувством напрасно прожитой жизни я вышел покурить. Пустое фойе вяло пересекал Светлов. Он поманил меня рукой: «Старик, о чем там шумят люди?» Я сказал, что там все шумят уже не существующие люди. И перечислил некогда громкие имена из его поколения. «Ты прав, старичок, — проговорил он, — и при этом идет страшная борьба за несуществование!»
Тут нужен целый трактат, чтобы достойно растолковать эту мысль, или лучше бы сказать — догадку. Может показаться, что она остроумна только как парадокс-перевертыш, но житейски, а уж тем более исторически, беспочвенна и пуста. Ан нет!
Представьте нетривиальный сюжетец… Талантливейший поэт, сравнительно молодой еще — ему за тридцать, но до сорока далеко, — вскоре после войны успевает опубликовать меж двух репрессалий (не знаю уж, как сказать короче) цикл прекрасных стихов. Вернувшийся недавно с войны, его старый друг-приятель сразу пишет о нем взволнованно-радостную статью и публикует ее под заглавием — «Второе рождение поэта». Первая статья о нем за много лет! Естественно, они обмывают это событие в кругу общих друзей. И никто не подозревает, что та статья уже взята на заметку руководителем Союза писателей как нежелательная, ибо до войны поэт побывал в лагере, а во время войны — в плену. И посему безоговорочные похвалы ему не полагаются.
Проходит немного времени, и руководитель Союза писателей в обзорном докладе объявляет злополучную статью «эстетским захваливанием». И редакции, начавшие улыбаться поэту-бедолаге, перестают улыбаться. А он звонит другу-критику и говорит, что им надо встретиться. И они встречаются в полуподвальной забегаловке на углу Столешникова. Чокаются гранеными стаканами — без тоста, потому что поэт не в духе и отводит глаза. «Скотство это с твоей стороны… — говорит он другу-критику. — Зачем ты написал обо мне?! Выставиться захотел?» Обомлевший критик-друг тихо спрашивает: «Ты что, с ума сошел?» — «Я-то не сошел… А вот ты о моей судьбе подумал? Теперь из-за тебя …удака, меня снова не будут печатать!» У критика-друга подрагивает стакан в руке, и еще тише он повторяет: «Ты что — спятил?!» — «Я-то не спятил, — повторяет поэт. — Мне надо было жить в незаметности, а что делать теперь, после твоей сволочной статьи?» — «Ты с ума сошел… ты спятил…» — потрясенно твердит автор «сволочной статьи» в спину поэта-друга, повернувшегося к стойке за новыми порциями водки. Но эти новые порции уже не нужны: ссоры ими не поправить.
Странноватый сюжетец, не так ли? Меж тем документально реальный. Или — точнее — молекулярно документальный. Время действия — годы 1946–1947-й. (Те самые, когда Пастернак сидит у ночного окна, обхватив голову руками.) Руководитель Союза писателей — А. А. Фадеев. Автор эстетского захваливания — аз грешный. Поэт-бедолага — Ярослав Смеляков. Это ему «надо было жить в незаметности», дабы выжить в те годы. Иначе: дабы существовать, он должен был вести светловскую борьбу за несуществование… А вы говорите — парадокс-перевертыш! Пронзительная догадка тихого мудреца-остроумца: в бесчеловечные времена появляется и такой психологический феномен.
Многоликий, мне он явился еще раз совсем в ином обличье.
14
Анатолий Тарасенков хотел превратить меня в собирателя-коллекционера русской критики XX века. Ему мерещилась — в параллель его исчерпывающей книжной библиотеке русской поэзии — такая же исчерпывающая, домашняя и тоже книжная (без периодики) библиотека отечественной критики той же поры.
У меня были три полки критических книг. У него чуть больше. Достойные издания совпадали, а заваль была разной, но для коллекции — заваль-то и есть вожделенная россыпь. «Мои метры — твои метры!» — щедрым жестом одарил он мою будущую библиотеку. И однажды, все той же осенью 47-го, я приволок с Конюшков в тесноту наших клетушек на Дмитровском переулке аршинные связки макулатурных на вид, но мне-то мнившихся коллекционно-бесценными изданий предреволюционных и постреволюционных лет. Залохматившиеся обложки и растерзанные корешки. Мне чудилось, это прибавляло книгам достоинства. Так с извращенной приятностью сознавалось, что Пастернак у меня стоит в поношенных суперах, как в рабочих спецовках. Но Тарасенков этого напрочь не признавал и казнился, что отдает мне критику не в должном виде. Но стихопереплетение и так отнимало у него все свободное время. «А хочешь, я тебя научу переплетать?» — осенило его однажды. «Что за вопрос?!» — с притворной охотой согласился я, чтоб не огорчить его, энтузиаста и маньяка.
И он стремительно научил меня этому ремеслу, как рукоделью. Без станка, без пресса, без тонкого инструментария, если не считать сапожного ножа, напильника и стальной линейки. И совсем скоро — в 49-м — я возблагодарил его за науку. Да, именно так — возвышенно: возблагодарил. Правда, только мысленно. Вслух не мог. Мы к тому времени уже не разговаривали, разоблаченный космополит и разоблачитель космополитизма… А возблагодарил я его мысленно по причине ни с чем не сравнимой уместности этого рукодельного занятия для литератора, волею обстоятельств изъятого из литературы.
Да и вообще — свидетельствую: когда истинное твое дело валится из рук, а голова набухает толчеею внутренних монологов, словом, в смутные часы жизни, переплетная возня лучше пасьянсов и решения шахматных задач!
Ну, а в моем случае «разжалованного критика» она, эта возня, обретала особый смысл… Казалось: деловые отношения с тобою литература оборвала насовсем. Тебя уже не попросят писать. А для сочинительства в стол ты еще слишком нетерпелив и азартен, да и нельзя заниматься критикой для себя. Как нельзя быть репетитором без учеников, священником — без причта или проституткой — без клиентуры. Или… параллелей много, а суть их едина. Отношения критика и книги — вещественны.
Это совсем не то, что отношения читателя и литературы. Там все бестелесно и беспоследственно. Ариадна Эфрон вспоминала, как Цветаева говорила: «Нельзя быть поэтом в душе, как нельзя быть боксером в душе — надо выходить на ринг и драться!» (Но, кажется, Марине Ивановне принадлежала лишь первая — достаточная полуфраза, а разъяснительную — после тире — прибавляла в пересказе дочь.) Читатель — это боксер в душе. Критик выходит на ринг. И бывает всякое: критик может послать в нокдаун автора вместе с его книгой, а может сам получить нокаут. И будет дурила-мученик лежать на помосте под свист или сочувствие боксеров в душе, не слыша счета — восемь… девять… десять — и не видя растопыренных пальцев судьи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Юрий Рост - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1095277/yurij-rost-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazyvayut.webp)

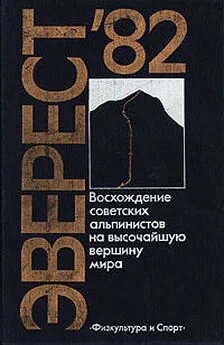





![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/1087691/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy.webp)

