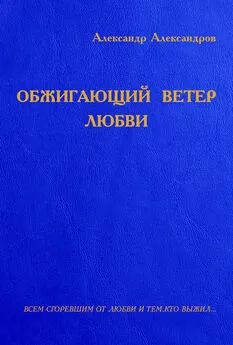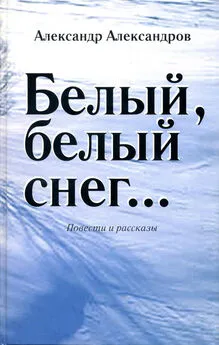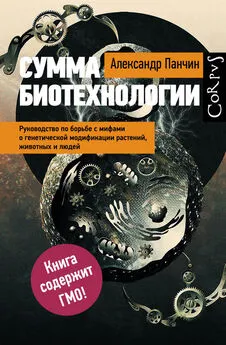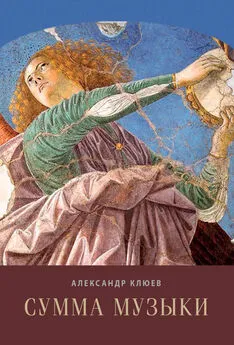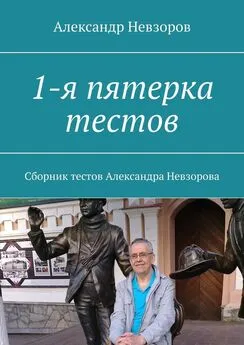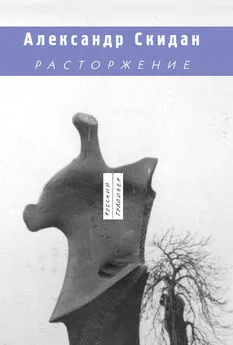Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)
- Название:Сумма поэтики (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0438-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник) краткое содержание
В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.
Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.
Сумма поэтики (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…ошеломляющее признание сообщено как маленькая деталь разговора о туфельках и о прическе; и самая эта обстоятельность – «друг и сосед папы, а ваш брат, Алексей Михайлович Малютин», – конечно, не имеет другого значения, как погасить, уничтожить ошеломленность и невероятность этого признания [219].
Выготский – а вслед за ним и все прочтения «Легкого дыхания», которые рассматривает Щербенок, включая и его собственное, «деконструктивистское», – упускает из виду то, что лежит, казалось бы, на поверхности, а именно логику полового различи я, захватывающую в том числе структуры родства, определяющие расстановку (иерархию) мужских и женских персонажей в рассказе. Не случайно Алексей Михайлович Малютин, сделавший Олю Мещерскую женщиной, является другом и соседом ее отца и одновременно – братом ее начальницы, и точно так же неслучайно упоминается в рассказе брат классной дамы, которая приходит на могилу Мещерской, – «бедный и ничем не замечательный прапорщик»: оба они – мужчины, и оба относятся к старшему поколению – поколению родителей и учителей Оли. Сама классная дама – «немолодая девушка», т. е., переводя на более современный язык, старая дева. Поклонник Мещерской гимназист Шеншин, казачий офицер, застреливший ее на платформе вокзала, «молодой царь, во весь рост написанный среди какой-то блистательной залы», на которого Мещерская смотрит во времяразговора с начальницей; сама начальница, «моложавая, но седая», сидящая с вязаньем под портретом императора, – все эти силовые линии властно стягиваются в одну вышестоящую инстанцию, остающуюся «за кадром» и представленную лишь частично, своими функциями и полномочиями: отцовскую [220].
В финале Бунин однозначно указывает именно на эту инициирующую инстанцию:
– Я в одной папиной книге, – у него много старинных, смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщин… Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза <���…> нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! [221]
От своего отца Оля Мещерская наследует вместе с фамилией и образ женщины, «какой она должна быть», вплоть до «легкого дыхания», каковое, чтобы стать тропом, уже должно быть включено в символическую цепочку, замкнутую на отца (либо его заместителя: друга или соседа), на отцовское знание-книгу, которое дочь выучивает наизусть. В имени героини безукоризненный слух Бунина соединил «пещеру» (платоновскую «утробу») с «мерцанием» и «мщением», от которых рукой подать до «смерти» [222]. В плане повествования эта связь предстает как реализация заглавной метафоры легкое дыхание , контаминированной сходными идиомами – легкое поведение и легка я смерть , чье метонимическое триединство и складывается в трагический удел героини.
На глубинном уровне удел героини обусловлен описанными ЛевиСтроссом элементарными структурами родства, в которых женщина, воплощающая собой, в противоположность порядку природному, порядок культурный, служит таким же предметом обмена, как речь, первичный предмет обмена. Отталкиваясь от антропологических данных, полученных Леви-Строссом, Жак Лакан назвал этот вторичный, «культурный» обмен символическим порядком. Институт брака, в свою очередь, является производным от этого последнего, он центрирован на фигуре отца (или старшего брата), что объясняет асимметричное положение женщины даже в современном обществе, далеко, казалось бы, ушедшем от первобытных племен: «Тот факт, что женщина вовлечена в порядок обмена в качестве предмета, сообщает ее положению принципиально – я бы сказал, безвыходно – конфликтный характер: символический порядок буквально подчиняет ее себе, ее трансцендирует» [223].
Вот почему женщины, согласно Лакану, не существует. Точнее, она существует лишь как симптом мужчины. Не существует, потому что структурно является не субъектом, а объектом: предметом обмена, циркулирующим между линиями потомства, линиями принципиально мужскими [224].
К «Легкому дыханию» Глюкли все это имеет вроде бы сугубо косвенное отношение. От рассказа она оставляет лишь неуловимое, неопределимое «легкое дыхание» – «воздушную», одухотворенную метафору «саму по себе».
Девушки падают в снег, в лесу (еще одна «блуждающая» метафора неопределенности и испытаний [225]) переживая «маленькую (театральную) смерть», как бы заговаривая, заклиная ее. Смерть становится благодаря этому ритуалу прирученной, нестрашной. И нестерпимо прекрасной. Как обморок (обморок страсти). Как свободное падение – в свободу, когда скользишь по наклонной плоскости аффекта в экран воображаемого, в окно – туда, где реализуется скрытое, подлинное (подлинное?) желание уже не девочки – еще не женщины: падение? «маленькая (прекрасная) смерть»?
От чего освобождает эта смерть персонажей перформанса Глюкли? От комнаты-тюрьмы с голубыми мещанскими обоями по стенам, в которой демонстрируется видеодокументация перформанса? От невыносимойдвусмысленности своего положения в этой, да и любой другой, комнате? От необходимости участия в мужском обмене, от гимена-Гименея?
Комментарий художницы – «Мы должны делать каждый день все надлежащие дела, но не забывать о главном: о легком дыханье» [226]– не дает однозначного ответа. Скорее, опять-таки, фигурально «подвешивает» его в неразрешимости, превращает в апорию, удваивая символический потенциал заглавной метафоры. Эта метафора – несводимо мужская, учитывая, что художница, по цепочке, тоже позаимствовала ее у культурного «отца», писателя Бунина. Отсюда, и отсюда тоже, завораживающий, мучительно-тревожный ауратизм , окутывающий эту работу [227].
Начинающуюся там, где обрывается «Легкое дыхание» (и «легкое дыхание»): в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.
В «пневматологическом» [228]шедевре Бунина, в гибельной траектории Оли Мещерской, переходящей от одного мужчины к другому, не могущей (это не в ее силах), не успевающей остановиться, социализироваться в браке – т. е. стать законной супругой, взять фамилию мужа и родить детей, что вывело бы ее как сексуальный объект из цепочки обмена, – контрастно противостоят две другие женские фигуры, причем – подчеркнуто статичные. Это начальница, сидящая с вязаньем под портретом царя, и посещающая могилу Мещерской классная дама, старая дева, «живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь» [229]. Первая репрезентирует верховную власть, «идентифицирует себя с фаллосом», как сказал бы Лакан; вторая выпадает из символического регистра, замыкаясь в собственном воображаемом. Это – две вакантных «тупиковых» позиции, уготованных «гимназистке» патриархальным обществом, которое к 1916 году – моменту написания рассказа [230]– находилось уже в процессе распада. В таком обществе и субъекты в погонах пребывают, соответственно, не в лучшем положении (бедный прапорщик, брат классной дамы, погиб под Мукденом; казачий офицер, застреливший Мещерскую, пошел под суд).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: