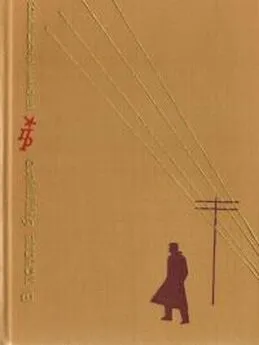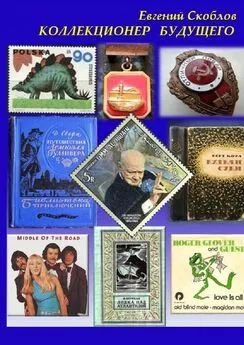Лев Кокин - Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой
- Название:Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1984
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Кокин - Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой краткое содержание
Лев Кокин известен читателю как автор книг о советской молодежи, о людях науки («Юность академиков», «Цех испытаний», «Обитаемый остров»). В серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями вышла его повесть о Михаиле Петрашевском «Зову живых». Героиня новой повести — русская женщина, участница Парижской Коммуны. Ораторский дар, неутомимая организаторская работа по учреждению Русской секции I Интернационала, храбрость в дни баррикадных боев создали вокруг имени Елизаветы Дмитриевой романтический ореол.
Долгие годы судьба этой революционерки — помощницы Маркса, корреспондента Генерального Совета I Интернационала — привлекала внимание исследователей. Некоторые факты биографии Е. Дмитриевой выявлены и уточнены автором в процессе работы над повестью, события которой происходят в России и Швейцарии, в Лондоне и восставшем Париже.
Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ближайшем окружении Маркса восхищались „энергией, железной трудоспособностью и умом“ Утина (как писала жена Маркса Беккеру). В бакунинском же стане он нажил себе злейших врагов, сводивших с ним счеты даже после его смерти, искажая его роль и значение в революционном движении и распуская о нем всевозможные сплетни, вплоть до обвинения в связях с царской охранкой. Эти сплетни оказались настолько живучи, что, узнав о нашем интересе к Русской секции, нашлись доброхоты, предостерегавшие нас от увлечения сомнительной личностью Утина. Поистине — клевещи, клевещи, что-нибудь да останется.
В. Н. Шульгин, член коллегии Наркомпроса и профессор истории, занимавшийся Чернышевским, рассказывал, как расспрашивала его об Утине Надежда Константиновна Крупская, встречавшая Николая Исааковича в ранней юности.
„Утин эмигрировал в 1863 году, — вспоминает В. Н. Шульгин. — Вернулся в Россию в 1880 году. Как? Нет ли в этом возвращении чего-то позорящего? Вот что, видимо, беспокоило ее.
Я еще подробнее рассказал Надежде Константиновне об обстоятельствах возвращения Николая Исааковича Утина. Он отошел от революционного движения… но никого не предал…“
С трудом оправившись после нападения бакунистов в Цюрихе, и без того измученный многими недугами (Маркс, зная об этом, помогал ему найти хороших врачей), Утин подал заявление о помиловании и разрешении вернуться в Россию. Это, разумеется, исторический факт. („Надо думать, — пишет Горохов, — что на уход Утина из революционного движения немало повлиял своего рода бойкот, которого придерживались по отношению к нему все русские течения из-за его борьбы с Бакуниным“.) Однако при учете всех обстоятельств это не дает еще оснований для обвинений в отступничестве, какие позволил себе, в частности, Горохов (не говорю уже о вышеупомянутой клевете), и не может зачеркнуть полутора десятилетий активной революционной борьбы».
11
Едва за посланцем Утина, базельским редактором, захлопнулась дверь, Елизавета, отложив все другие дела, уселась за стол. Чувствовала себя перед лондонскими друзьями в долгу.
«Париж, 24 апреля 1871 г. Милостивый государь! — начала без раздумий. — По почте отправлять письма невозможно: всякая связь прервана, все попадает в рук версальцев…»
Сообщив о многих — Огюста Серрайе и своих — попытках отправить письмо, от объяснений вынужденного своего молчания перешла к существу дела. Точнее, хотела было перейти, но не удержала упрека: «Как вы можете оставаться там в бездействии, в то время как Париж на краю гибели?»
Горечь усталости и разочарования — «как вы можете?!» — в этом упреке Елизаветы. И лишь следом — по делу: «Необходимо во что бы то ни стало агитировать в провинции, чтобы она пришла нам на помощь». Как будто в Лондоне не понимали, что это единственная надежда — распространение революционного движения на всю Францию! Но откуда ей было знать, что Маркс, даже почти разуверясь в победе Коммуны, прикладывал массу сил, чтобы разрушить ту «стену лжи», которую воздвигли версальцы. Все возможности Интернационала были пущены в ход. Не зная этого, Елизавета продолжала из города, который, как казалось ей, находился на краю гибели: «Парижское население (известная часть его) героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными» (опять, пусть неявно, упрек!..). И дальше, по-дружески, искренне: «Вы знаете, что я пессимистка и не ожидаю ничего хорошего, поэтому я приготовилась к тому, чтобы умереть в один из ближайших дней на баррикадах. Ожидается общее наступление».
Услышь она эти слова произнесенными вслух на парижской улице, заподозрила бы в них непростительную слабость, а то и предательство… но с друзьями можно позволить себе откровенность — и вот вырвалось… Так же как жалоба на нездоровье («Я очень больна, у меня бронхит и лихорадка») — перед тем, как приняться за рассказ о своих делах:
«Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа. Я созываю публичные собрания. Мы учредили во всех округах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я думаю, что дело пойдет. Но сколько потеряно времени и какого труда мне это стоило! Приходится выступать каждый вечер, много писать, и моя болезнь все усиливается. Если Коммуна победит, то наша организация из политической превратится в социальную, и мы создадим секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех, и вообще интернациональная пропаганда, которую я веду с целью показать, что все страны, в том числе и Германия, находятся накануне социальной революции, весьма одобрительно воспринимается женщинами. Наши собрания посещает от трех до четырех тысяч женщин. Несчастье в том, что я больна и меня некому заменить…»
По-видимому, она справилась со своей меланхолией, поскольку продолжила бодро:
«Дела Коммуны идут хорошо… — но запнулась и трезво добавила: — Только вначале было допущено много ошибок…»
Примеров этому не приходилось искать: ЦК национальной гвардии не сразу уступил власть Коммуне; к крестьянам не обратились вовремя с манифестом; назначили военным делегатом — фактическим главнокомандующим — Клюзере, несмотря на всю агитацию против него.
«Но Малон уже рвет на себе волосы оттого, что не послушался меня. На днях Клюзере будет арестован…» — последнюю фразу из предосторожности написала по-английски: мало ли что может приключиться с письмом…
Перо попалось какое-то жесткое, царапало бумагу, раздражающе скрипело и оставляло кляксы.
Суть письма она, однако, подытожила с твердостью:
«На мой взгляд, делается все, что возможно».
А закончила следующим образом:
«Я не могу говорить об этом слишком подробно, потому что боюсь, как бы прекрасные очи г-на Тьера не заглянули в это письмо, — ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина.
Я сижу без гроша. Если Вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как Вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку Вам, Вашей семье и семье М…» Имена порой называла полностью, а то сокращала до одной или нескольких букв: Клю(зере), Ут(ин), Ж(аклар). Имя Маркса на всякий случай зашифровала от «прекрасных очей», написала «семье М.» — и «М.» подчеркнула жирно. «…Что поделывает Женни?
Если бы положение Парижа не было столь критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь: здесь так много дела. Лиза».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
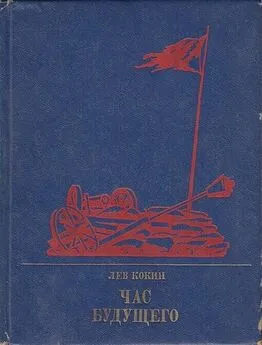

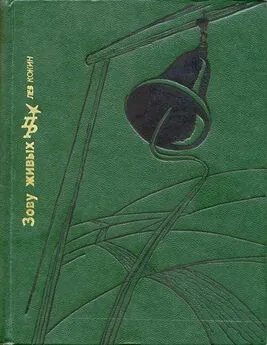


![Лев Линьков - Призвание [Рассказы и повесть о пограничниках]](/books/1083646/lev-linkov-prizvanie-rasskazy-i-povest-o-pogran.webp)