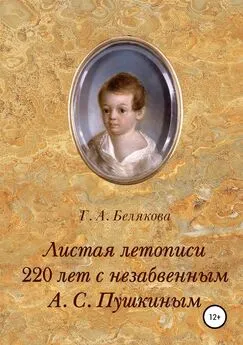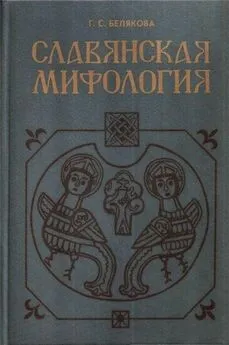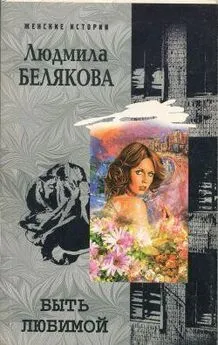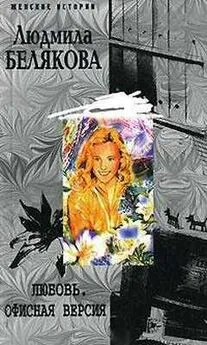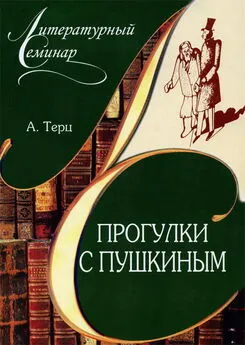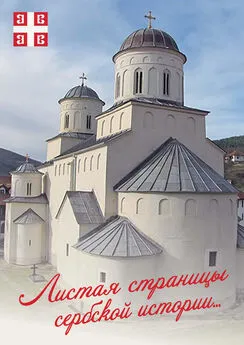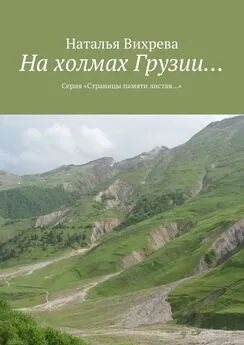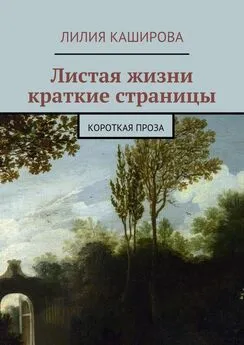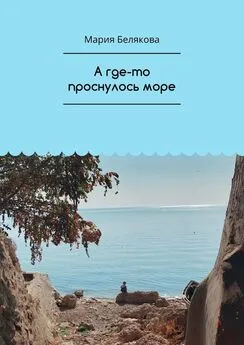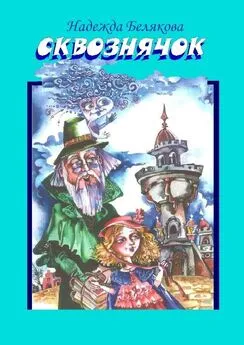Галина Белякова - Листая летопись. 220 лет с незабвенным А. С. Пушкиным
- Название:Листая летопись. 220 лет с незабвенным А. С. Пушкиным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Галина Белякова - Листая летопись. 220 лет с незабвенным А. С. Пушкиным краткое содержание
Листая летопись. 220 лет с незабвенным А. С. Пушкиным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И.Пущин: – Несознательно для нас самих мы начали в лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия директор Лицея объявил предписание министра, которым возбраняется выезжать из лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Разумеется, временное волнение прошло, как проходит постепенно всё, особенно в юные годы. Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаёшь, что в нём-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсников лицея – Друзья мои, прекрасен наш союз:
Он как душа неразделим и вечен,
Неколебим, свободен и беспечен!
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы; нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
3
Несмотря на то, что круг общения позже был разным – Пушкин кружился в большом свете, а Пущин был дальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали Пущина из Петербурга. Всё это, однако, не мешало им, при всякой возможности, встречаться с прежней дружбой и радоваться встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; больше свидания были с Пушкиным у домоседа Дельвига.
Но, «Друг Пушкина», «декабрист» – этого ещё было недостаточно, чтобы объяснить огромную притягательную силу Пущина. Для тех, кто знал И.Пущина, не было никакой загадки. Его современники, люди различных политических взглядов, разного возраста, социального положения, противоположные во всём, в одном – отношении к И.И.Пущину – оказывались удивительно единодушными. Среди декабристов, которых по праву можно считать цветом русского общества первой четверти XIX века, Пущин занимал совершенно особое, одному ему свойственное место. «Мало найдётся людей, которые бы имели столько слов, говорящие в их пользу, как Пущин, – сказал о нём Н.В.Басарыгин, кратко выразив общее мнение декабристов.
В Сибири с особой силой проявился дар Пущина привлекать к себе всех гонимых. Ссыльные поляки отзывались о нём как о « бриллианте среди декабристов». Польский революционер Руциньский говорил о нём: « Много благородства в характере, отзывчивый и щедрый, притом весёлый и остроумный, любим был повсюду. В женщинах был безмерно счастлив. Всем сердцем любил свою родину, но без фанатизма. Основательно знал отечественную литературу, правильно, даже красиво говорил и писал по-русски. Патриотизм его был истинным, просвещённым, вызывал симпатию и уважение. Эти взгляды поставили его выше всех его товарищей». Так Пущин воспринял учения своих преподавателей лицея – В.Ф.Малиновского, А.П.Куницына.
После тридцати лет каторги и ссылки Пущин ни в чём себе не изменил. В первых письмах Пущин сообщает Е.К.Энгельгарду: « Я приносил свою лепту в общее дело. И много уже перенёс, и ещё больше предстоит в будущем, если богу угодно будет продлить надрезанную мою жизнь; но всё это я ожидаю, как должно человеку, понимающему причину вещей и непременную с тем, что рано или поздно должно восторжествовать, несмотря на усилия людей – глухих к наставлениям века».
4
Конечно, были и другие мнения о Пущине. Историк Лицея Н.Гастфрейнд в 1913 году: «Пущин – вот личность не по заслугам раздутая! Не проявив никакого исключительного участия ни в заговоре, ни в самом бунте, Пущин, тем не менее, сохранил за собою ореол сочувствия, приобрёл нимб декабристской святости…Единственное важное дело, которое он совершил в жизни, это то, что он не увлёк за собою Пушкина и написал о нём свои воспоминания».
Да, не увлёк, на это были душевные размышления Пущина о своём друге: « Странное смешение в этом великолепном создании! Никогда не переставал я любить его, писал Пущин; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы Александр, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял своё призвание. Видно, не могло, и не должно было быть иначе, – видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым глаза. Хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближение с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень».
Но, Александр Сергеевич Пушкин был не тот человек, чтоб сдерживать свои порывы, из-за чего он страдал, сам не ведая этого. В январе 1820 года Александр I, пригласил пройтись по саду директора лицея и сказал:
«Энгельгард! – сказал ему государь. – Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь наизусть их читает». Директор на это ответил: «Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нём развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже краса современной нашей литературы, а впереди ещё большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его!».
Пушкина тогда командировали от Коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края, с ним Пушкин переехал из Екатеринославля в Кишинёв, а впоследствии оттуда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям.
В это время Иван Пущин, сбросив конно-артиллерийский мундир, преобразился в судьи уголовного департамента Московского надворного суда. Переход резкий, имевший тогда своё значение.
В 1824 году Пущин узнаёт, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню своего отца, под надзор местной власти, – надзор этот был поручен Пещурову, предводителю дворянства Опочковского уезда, да ешё отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в 4-х верстах от Михайловского. Эти сведения были сложные и не разрешимые для понятия лицеистам такого исхода по отношению к Пушкину.
И.Пущин, зная всё это, решил навестить друга, несмотря на некоторые опасения, которые высказывали А.И.Тургенев, и дядюшка Александра В.Л.Пушкин.
Встречу незабвенную, да и последнюю, так вспоминает Пущин:
« …На крыльце вижу Пушкина босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Мы смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один – почти голый, другой – весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем, она всё поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, – чуть не задушил её в объятиях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: