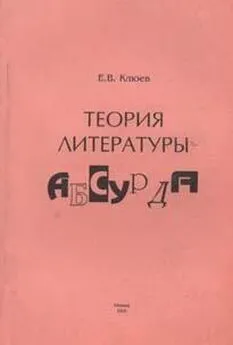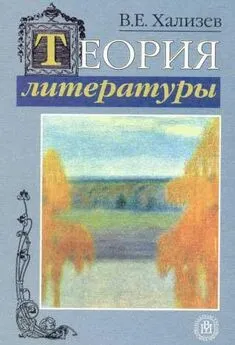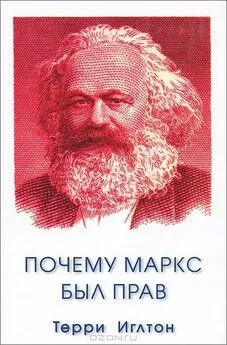Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
- Название:Теория литературы. Введение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-91129-079-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Терри Иглтон - Теория литературы. Введение краткое содержание
В «Теории литературы», академическом бестселлере британского марксиста-литературоведа Терри Иглтона, прослеживается история изучения текстов от романтиков XIX столетия до постмодернистов конца XX века и показывается связь между политикой и литературоведческой теорией.
Написанная доступным языком, книга представляет интерес для широкого круга читателей.
Теория литературы. Введение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Более детальным историческим исследованием восприятия литературы является произведение Жан-Поля Сартра «Что такое литература?» (1948). Книга Сартра проясняет, что восприятие произведения никогда не бывает «внешним», вызванным книжными обзорами или продажами; это сущностный аспект самого произведения. Каждый литературный текст выстроен в расчёте на его потенциальную аудиторию, включая образ того, для кого ou написан: любое произведение зашифровывает в себе то, что Изер называет «предполагаемым читателем», в каждом своём жесте подразумевая ожидаемого «адресата». «Потребление» в литературе, как и любом другом производстве, является частью самого процесса производства. Если роман открывается предложением: «Джек вышел из паба с красным носом и пошатываясь», то он уже предполагает читателя, понимающего достаточно сложный английский, знающего, что такое паб, и имеющего обусловленное культурой знание о связи алкоголя и покраснения лица. Это не значит только лишь, что писателю «необходима аудитория»: язык, которым он пользуется, уже выделяет одну часть возможной аудитории перед другой, и тут уж не остаётся большого выбора. Писатель может вовсе не держать в голове образ определённого читателя, он может быть абсолютно безразличен к тому, кто читает его произведение, но определённый читатель уже подразумевается самим актом письма в качестве внутренней структуры текста. Даже когда я разговариваю сам с собой, моё высказывание не будет высказыванием в полной мере, если оно – а не я – не рассчитывает на потенциального слушателя. Вот и исследование Сартра ставит вопрос: «Для кого пишет писатель?», но это скорее исторический, чем «экзистенциальный» ракурс. Он прослеживает судьбу французского писателя с XVII века, когда «классический» стиль означал заключение соглашения между автором и аудиторией или определение ими общего набора посылок, – до привычного для XIX века самовосприятия литературы как неизбежно адресованной презираемой ею буржуазии. А заканчивает Сартр дилеммой современного «ангажированного» автора, который не может адресовать своё произведение ни буржуазии или рабочему классу, ни мифическому «человеку вообще».
Думается, рецептивная теория Яусса и Изера ставит острую эпистемологическую проблему. Если рассматривать текст «сам по себе», как скелет или набор схем, ожидающих, чтобы их конкретизировали различными способами различные читатели, как возможно обсудить все эти схемы, ещё не конкретизировав их? Говоря о «тексте как таковом», измеряя его как норму, противопоставленную конкретным интерпретациям, имеем ли мы дело с чем-то большим, чем наша собственная конкретизация? Требует ли критика неких богоподобных знаний о тексте «самом по себе», знаний, отсутствующих у простого читателя, которому неминуемо приходится иметь дело с собственной неполной конструкцией текста? Иными словами, перед нами разновидность старой проблемы: как мы можем знать, выключен ли свет в холодильнике, когда дверь закрыта. Роман Ингарден признаёт это затруднение, но не может предложить для него адекватного решения; Изер предоставляет читателю привлекательную степень свободы, но при этом тот не свободен интерпретировать так, как пожелает. Интерпретация, чтобы быть интерпретацией именно этого текста, а не иного, должна быть, в известном смысле, логически спровоцирована самим текстом. Иными словами, произведение определяет степень обусловленности читательской реакции на него, иначе критика оказалась бы полной анархией. «Холодный дом» Диккенса был бы не более чем миллионом непохожих, часто противоположных прочтений романа, к которым пришли читатели, а «текст как таковой» был бы отброшен. А если литературное произведение не детерминированная структура с некоторыми «тёмными местами», если всё в тексте неопределенно и зависит лишь от того, какой способ чтения читатель избрал, чтобы его сконструировать? В каком смысле мы сможем тогда говорить об интерпретации «того же самого» произведения?
Не все сторонники рецептивной теории находят это затруднительным. Американский критик Стэнли Фиш довольно весело соглашается с тем, что нет никакого «объективного» произведения, вот здесь на этом столе. «Холодный дом» есть не что иное, как все разнообразные прочтения этого романа, которые были или будут даны. Читатель – вот истинный писатель: неудовлетворённые статусом только лишь партнёров в литературном предприятии (единственное, что мог предложить Изер), читатели теперь ниспровергли писательскую власть и установили свою. Для Фиша чтение является не открытием значений текста, но переживанием того, что он делает с нами. У него прагматическое понимание языка: изменение привычного порядка слов, к примеру, может породить в нас чувство удивления, а может дезориентировать, и критика есть лишь развивающийся индивидуальный отклик читателя, постигающего слова на странице. То, что текст «делает» с нами, является, вообще-то, тем, что мы делаем с ним, это вопрос интерпретации; объектом критического внимания становится структура читательского опыта, а не «объективные» структуры, которые можно отыскать в самом произведении. Всё в тексте – его грамматика, смыслы, формальные единицы – является продуктом интерпретации, а не дано «фактически», и это поднимает интригующий вопрос о том, что же, по его мнению, интерпретирует сам Фиш, читая текст. Вот его ошеломляюще искренний ответ: он не знает, но думает, что не знает и никто другой.
В действительности, Фиш тщательно защищается от герменевтической анархии, к которой должна вести его теория. Чтобы избежать разложения текста на тысячу конкурирующих прочтений, он обращается к определённым «стратегиям интерпретации», которыми обладают все читатели в целом и которые будут направлять их личные отклики. Но историческим откликам тут места нет: «читатели в целом», единственные, кто «в курсе дела», – это те, кто взращён академическими институциями, а их восприятия не слишком отличаются друг от друга, предотвращая тем самым все разумные возражения с других сторон. Как бы там ни было, Фиш настаивает, что существование в самом произведении хотя бы чего-то, благодаря чему идея смысла в целом пребывает «имманентно» в языке текста, дожидаясь своего освобождения в интерпретации читателя, является объективистской иллюзией. Он полагает, что Вольфганг Изер пал жертвой этой иллюзии.
Спор между Фишем и Изером является до известной степени всего лишь словесным. Фиш вполне прав, утверждая, что в литературе или в мире в целом нет ничего «данного» или «предопределённого», если под этим имеется в виду «неинтерпретированное». Не существует «грубых» фактов, не зависимых от налагаемых человеком смыслов; не существует явлений, о которых мы не знаем. Но это не то, что «данное» с необходимостью или обычно означает: не многие философы науки в наши дни не признают лабораторные данные продуктом интерпретации, разве что это интерпретации не в том же смысле, что дарвиновская теория эволюции. Есть различие между научной гипотезой и научными данными, хотя и то и другое, несомненно, является «интерпретацией», и непреодолимая пропасть между ними, которую представляет себе большинство традиционных философов науки, конечно, тоже является иллюзией [95]. Можно сказать, что восприятие семи чёрных знаков в качестве слова «соловей» – это интерпретация, или что восприятие чего-то как чёрного как семи или как слова тоже интерпретация, и быть правым; но если в большинстве случаев вы читаете эти знаки как означающие «соловый», вы будете неправы. Интерпретация, с которой каждый может согласиться, стоит в одном шаге от признания факта. Сложнее показать, что интерпретации «Оды соловью» Китса неверны. Интерпретация в этом втором, более широком смысле наталкивается на то, что философия науки называет «недоопределённостью теории», имея в виду, что любой набор данных может быть объяснён более чем одной теорией. Будут ли семь знаков, о которых я упомянул, относиться к слову «соловей» или «соловый» – это ничего не меняет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: