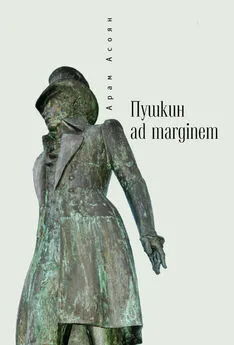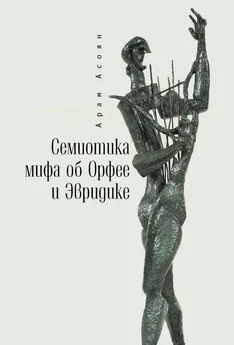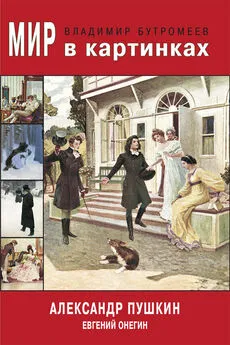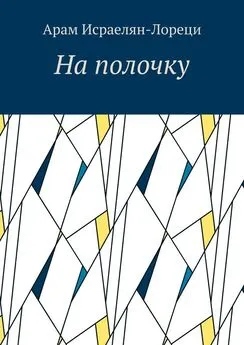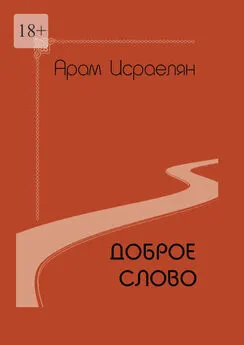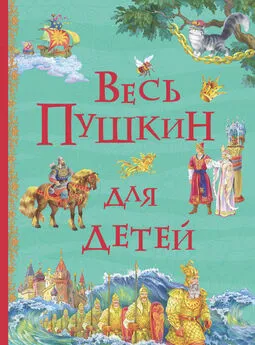Арам Асоян - Пушкин ad marginem
- Название:Пушкин ad marginem
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-8-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арам Асоян - Пушкин ad marginem краткое содержание
Пушкинистика – наиболее разработанная, тщательно выверенная область гуманитарного знания. И хотя автор предлагаемой книги в пушкиноведении не новичок, – начало его публикаций в специальных пушкиноведческих изданиях датируется 1982 г.,– он осмотрителен и осторожен, потому что чуждается торных путей к поэту и предпочитает ходить нехожеными тропами. Отсюда и название его книги «Пушкин ad marginem». К каждой работе в качестве эпиграфа следовало бы предпослать возглас «Эврика!». Книга Арама Асояна не сборник статей. Здесь все главы одного целеполагания, одного фокуса, одной перспективы, точка схода которой целостность пушкинского наследия и судьба поэта. Книга адресована всем, кто читал и читает Пушкина.
Пушкин ad marginem - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос о «всечеловечности» пушкинского гения невольно обращает к известной работе Гегеля «Греческий мир». Здесь Гегель писал: «…греческий дух изумляется естественности природы, он относится к ней не равнодушно, а как к чему-то сперва чуждому духу, но внушающему ему предчувствие и побуждающему его догадываться и верить, что в нем содержится нечто такое, к чему он может относиться положительно» [420]Так рождается «полное предчувствий настроение, выражающееся в том, что люди прислушиваются, доискиваются смысла», но он оказывается не объективной характеристикой его источника, а «мыслью самого субъекта…» Смысл является, таким образом, «произведением чуткого духа, который, прислушиваясь, творит в самом себе» [421].
Возможно, именно подобную эпистемологию, такой гнозис имел ввиду Пушкин, когда говорил, что «… провидение не алгебра. Ум человеческий (…) не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем…» [422]. В стихотворении «Элегия» 1830 г. он писал: «И ведаю, мне будут наслажденья. Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь.»
Ведаю, т. е. предполагаю… К этому кстати добавить, что, например, Вяч. Иванов дифференцировал такие понятия, как «реализм» и познание. «Не познание есть основа защищаемого Достоевским реализма, – писал он, а «проникновение»: недаром любил Достоевский это слово и произвел от него другое, новое – «проникновенный». Проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое Я не как объект, а как другой субъект. (…) Символ такого проникновения заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением чужого бытия: «ты еси». При слове этой полноты (…) чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится для меня другим обозначением моего субъекта. «Ты ЕСИ» – значит не ты «познаешься мною как сущий», а «твое бытие переживается мною, как мое», или: твоим бытием я познаю себя сущим» [423].
Подобное своеобразие восприятия «Другого» позволило Достоевскому высказать миф о «всемирной отзывчивости русского гения», который, по мнению писателя нашел свое абсолютное выражение в творчестве Пушкина. И. Ильин, размышляя о пророческом значении поэта, вступил с Достоевским в спор, и, желая «поправить» писателя, истолковал «всемирную отзывчивость» Пушкина шире, не только как воссоединение с народами, но и в космологическом ракурсе, т. е. совсем по-гегелевски, как понимал ее немецкий философ, размышляя о греках. Ильин писал: «Сила художественного отождествления связывает поэта (…) со всею природою: и с ночными звездами, и (…) с душою встревоженного коня, и с (…) анчаром пустыни; словом – со всем внешним миром» [424]. Тем самым Ильин как будто указал на воспреемничество Пушкина с древним творческим духом, с изначальным актом созидания поэта в человеке, который всему дарует образ и смысл.
Этот акт созидания дал повод Гегелю полагать, что сущность греческой культуры заключена в «обращении природного в духовное», «чувственного – в дух». «В греческой красоте, – писал Гегель, – чувственное является лишь знаком, выражением, оболочкой, в которых обнаруживается дух» [425]. Словно иллюстрация к гегелевскому замечанию, читается стих Пушкина, запечатлевший его художественное самосознание: «В гармонии соперник мой Был шум лесов иль вихорь буйный». Но дело не только в претворении природного в духовное: поэт словно предлагает нам вспомнить об эллинском, гераклитовом, символе гармонии – луке и лире. Гераклит, важнейшим понятием в философской системе которого был Логос («Слово-смысл»), считал, что противоположно направленные силы образуют напряженное состояние, которым и определяется внутренняя, «тайная» гармония вещей. Оба дугообразных конца лука стремятся разогнуться, но тетива стягивает их, и эта взаимная сопряженность организует высшее единство. Аристотель так излагал идею Гераклита: «Все происходит через распряю». [426]Это толкование гармонии было естественным следствием религиозности древнего сознания, когда религия, по словам Вяч. Иванова, предполагала не какое-либо определенное содержание религиозных верований, но была «формой самоопределения личности в ее отношении к миру и Богу» [427]. «Чтобы искусство было жизненно, – писал Иванов, – художник должен жить (…) истинно жизненное искусство есть результат целостной (…) личности, которая не может не сознавать своего единства в соотношении с другими живыми единствами и не соподчиняться всеобъемлющему единству в радостном утверждении своего и всеобщего бытия. Чем целостнее и энергичнее личность, тем живее в ней вселенское чувство» [428]. Вселенское чувство всеобъемлющего единства, претворение «вражды» в согласие находит в поэзии Пушкина яркое воплощение в оксюморонах: «печальное сладострастье», «печаль моя светла» и подобных им, в которых, как сказал бы Достоевский, все противоречия вместе живут.
Глубокий толкователь Пушкина, Вяч. Иванов был убежден и убеждал других: «Поэт всегда религиозен, потому что всегда поэт» [429]. «Когда Пушкин, – отмечал он, – говорит о Греции, он воспринимает мир как эллины, а не как современные эллинизирующие эстеты…» [430].
Именно изначальная религиозность Поэта, родственная религиозности древних греков, была гарантом целостности пушкинского духа, которая, замечал О. Миллер, так ярко выразилась в нашем древнем языке употреблением одного слова – лепота – в смысле и красоты, и добра, и истины [431]. Древнерусская лепота сродни греческой калокагатии, и она всегда связана с «милым идеалом» Пушкина, с «гением чистой красоты». При этом Пушкин, – по мнению И. Аксакова, – начисто лишен мечтательности в смысле немецкого Schwärmerei, а вместе с нею, и негативной страстности [432]. Пушкин свято верил, что «Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви» [433]«Гуманность Пушкина, – замечал в связи с этим И. Анненский, – была явлением высшего порядка: ее источник был не в мягкосердечии, а в понимании и чувстве справедливости» [434]. Гуманность Пушкина вполне объяснима способностью поэта видеть явление с противоположных сторон, а если вести речь о генетической природе этой способности – то в духовной принадлежности поэта к универсуму, в котором полярности поддерживают равновесие мироздания, и это оказывается залогом его вечности. Недаром в стихотворении «Наполеон» мысль о «равновесии» в действиях героя противоположных «векторов» служит мотивом его оправдания:
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возместит укором!
Ее развенчанную тень!
В свете эллинских представлений Пушкин подлинно мусический поэт, о котором М. Элиаде писал: «он пьет из источника знания Мнемозины, это значит, что он прикасается к познанию „истоков“ (…)… Т. о., воспетое прошлое есть более чем простое предшествование настоящему: оно есть его источник. Восходя к этому источнику, воспоминание ищет не возможности расположить события во временных рамках, а возможности достигнуть основы существующего, обнаружить первопричину, первоначальную реальность, породившую космос и позволяющую понять становление в его целостности» [435]. Вот почему Пушкин, причастный «первоначальной реальности», был убежден, что «Прекарсное должно быть величаво» И в силу этой причастности он твердо знал, что принадлежит к миру более прочному, чем мир царей [436], ибо по мнению американского поэта, лауреата Пулитцеровской премии Уоллеса Стивенса, теория поэзии – это на самом-то деле теория самой жизни. Пушкин глубоко сознавал это, ощущая в себе нераздельность художника и человека [437], и об этом прежде всего свидетельствует его последняя дуэль, над которой впору звучать словам автоэпитафии Эсхила, где «человек» предваряет «поэта», предшествует ему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: