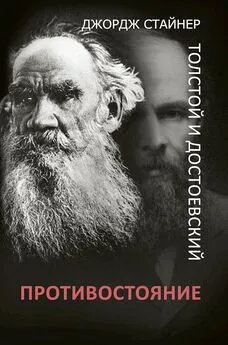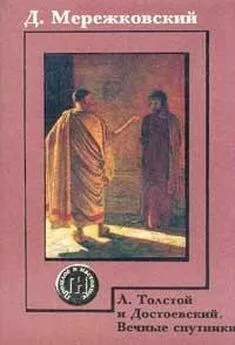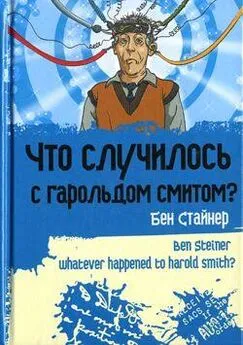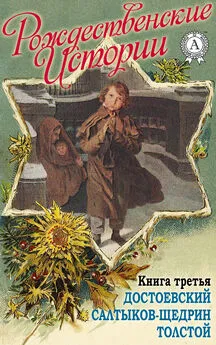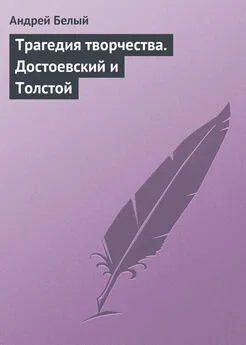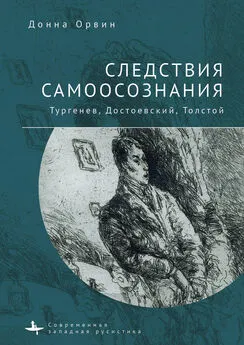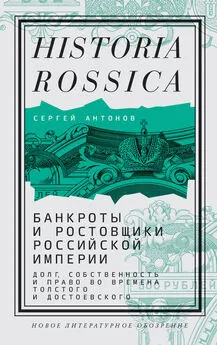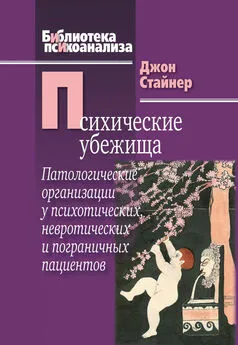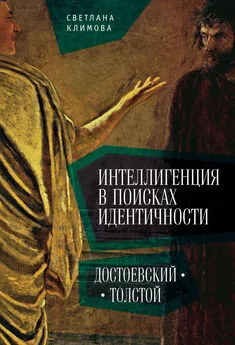Джордж Стайнер - Толстой и Достоевский. Противостояние
- Название:Толстой и Достоевский. Противостояние
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-104873-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Стайнер - Толстой и Достоевский. Противостояние краткое содержание
«Ни один английский романист по величию не сравнится с Толстым, столь полно изобразившим жизнь человека как с частной, так и с героической стороны. Ни один английский романист не исследовал душу человека так глубоко, как Достоевский», — говорил знаменитый писатель Э. М. Форстер.
Американский литературный критик, профессор Джордж Стайнер посвятил Толстому и Достоевскому свой знаменитый труд, исследуя глубины сходства двух гениев и пропасти их различия.
Толстой и Достоевский. Противостояние - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Повествование почти бесчеловечно в своем спокойствии; но потом голый ужас охватывает нас и повергает в смятение. Кроме того, Гомер никогда не жертвует твердостью видения ради пафоса. Приам и Ахилл встречаются и изливают друг перед другом свои беды. Но затем они вспоминают о мясе и вине. Ибо — как Ахилл говорит о Ниобе:
«Пищи забыть не могла и несчастная матерь Ниоба,
Матерь, которая разом двенадцать детей потеряла».
И вновь мы видим сухую приверженность фактам и отказ поэта от внешнего проявления эмоций, чтобы передать горечь в его душе.
В этом отношении из писателей западной традиции нет никого ближе Гомеру, чем Толстой. Как отметил в своем дневнике (1887 г.) Ромен Роллан, «в искусстве Толстого отдельно взятая сцена не видится с двух точек зрения, ракурс только один: все вещи таковы, каковы они есть, и никак иначе». В «Детстве» Толстой вспоминает о кончине своей матери: «Я был в сильном горе в эту минуту, но невольно замечал все мелочи», в том числе то, что сиделка была «молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка». Когда мать умирает, мальчик испытывает «какое-то наслаждение», зная, что он несчастлив. В ту ночь он спит «крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения». На следующий день ему предстоит узнать запах тлена:
«Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне и истину и наполнила душу отчаянием».
«Не отрывайте взгляд от света, — говорит Толстой, — вот и все».
Но твердая ясность гомеровской и толстовской позиции состоит не просто в отстраненности. Есть еще радость, та радость, которой искрятся «древние горящие глаза» мудрецов у Йейтса в «Ляпис-лазури». Ибо они любили и чтили человеческое в человеке; они любовались жизнью тела, когда она со спокойствием воспринята, но с пылкостью изложена. Более того, они интуитивно стремились устранить разрыв между духом и жестом, соотнести руку мечу, судно — водам океана, обод колеса — поющим дорожным камням. И Гомер в «Илиаде», и Толстой видели действие во всей целостности; вокруг персонажей дрожит воздух, а их внутренняя сила электризует неживую природу. Кони Ахилла оплакивают его неумолимый рок, а распустившийся дуб уверяет Болконского, что сердце еще оживет. Эта созвучность между человеком и окружающим миром распространяется даже на кубки, в которых Нестор после заката ищет мудрость, и на березовые листья, сверкающие внезапным буйством алмазов после грозы в поместье Левина. Ни Гомера, ни Толстого не останавливал барьер между разумом и объектом, двусмысленность, которую метафизики усматривают в самих понятиях «реальность» и «восприятие». Жизнь, словно море, неслась на них потоком.
И они наслаждались ею. Называя «Илиаду» «Поэмой о силе» и рассматривая ее как хронику о трагической тщетности войны, Симона Вейль [49] Симона Вейль (1909–1943) — французский философ и религиозный мыслитель.
права лишь отчасти. «Илиада» весьма далека от пессимистического нигилизма Еврипидовых «Троянок». У Гомера война — это доблесть и, в итоге, благородство. И даже в разгар кровопролития жизнь бьет ключом. У погребальной насыпи Патрокла троянские военачальники соревнуются в борьбе, беге и метании дротиков, прославляя свою силу и радуясь жизни. Ахилл знает, что судьба его предрешена, но еженощно его навещает «Брисеида, румяноланитная дева». В мирах Гомера и Толстого война и бренность сеют хаос, но главный стержень остается неизменным: жизнь сама по себе воистину прекрасна, труды и дни людей достойны увековечения, а любая катастрофа — будь то даже сожжение Трои или Москвы — еще не конец. Ибо вдали за обугленными башнями и полями брани катит волны свои винно-черное море, а когда Аустерлиц забудется, нивы вновь, по выражению Поупа, «засмуглеют на склоне».
Эта космология всецело выражена фразой Боссолы, когда он напоминает герцогине Мальфи [50] Трагедия Джона Вебстера «Герцогиня Мальфи» (1612–1613).
, поносящей мироздание в отчаянном бунте: «А звезды как светили, так и светят!» [51] Пер. П. Мелковой.
Это жуткие слова, в них — отстраненность и суровое указание на то, что природа взирает на наши горести без всяких эмоций. Но если отвлечься от их жестокости, в этих словах выражена вера в то, что сиюминутный хаос пройдет, а жизнь и звездный свет пребудут вечно.
Гомер как автор «Илиады» и Толстой близки друг другу еще в одном аспекте. Изображение реальности у них антропоморфно; человек есть мера и главная движущая сила опыта. Более того, персонажи «Илиады» и толстовской прозы нам показаны в атмосфере глубоко гуманистической и даже мирской. Значение имеет только царство этого мира — здесь и сейчас. Тут, в некотором смысле, парадокс; в троянских степях дела смертных непрестанно путаются с делами богов. Но само схождение богов к людям, их беззастенчивая включенность в чисто человеческие страсти — все это придает произведению иронический оттенок. К этому парадоксальному мировоззрению обращается Мюссе, когда пишет о древней Греции в начальных строчках поэмы «Ролла»:
Когда еще была божественна земля
И были горести божественны земные;
Когда был сонм богов — зато среди людей
И слуху не было еще об атеистах… [52] Пер. Е. Баевской.
Вот именно: когда сонмы богов воюют в человеческих распрях, волочатся за смертными женщинами и ведут себя скандально даже по меркам самой либеральной этики, — тут никакого атеизма не нужно. Атеизм возникает в противовес живому и достоверному Богу, а мифология с комическим оттенком атеистической реакции не вызывает. В «Илиаде» божественное по своей сути человечно. Боги — это гиперболизированные смертные — причем зачастую в сатирическом ключе. При ранении их стоны громче людских, при влюбленности их вожделение более всепоглощающе, при бегстве от человеческих дротиков они резвее земных колесниц. Но в морально-интеллектуальном плане боги «Илиады» напоминают гигантских дикарей или зловредных детей, наделенных избыточной силой. Действия богов и богинь в Троянской войне увеличивают масштабы человека, ибо при равных шансах смертные герои более чем успешно удерживают сильные позиции, а если весы склоняются не в их пользу, условные Гектор или Ахилл демонстрируют, что в смертности есть свое величие. Понижая богов до уровня человеческих ценностей, «первый» Гомер не только добивается комического эффекта, хотя подобный эффект очевидно усиливает свежесть и «сказочность» поэмы. Он, скорее, подчеркивает превосходство и достоинство человека-героя. И именно это — главная тема его поэмы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: