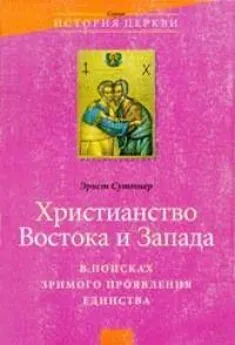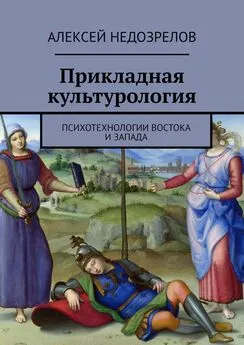Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Название:Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ св. АПОСТОЛА АНДРЕЯ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-89647-065-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства краткое содержание
Эрнст Суттнер — доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.
Христианство Востока и Запада: в поисках зримого проявления единства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разрешение на утверждение унии и этих четырех пунктов должно было быть получено из Вены. Но получение разрешения затянулось, и в июле 1697 г. неожиданно умер епископ Теофил, так что даже ходили слухи о вероятном убийстве. На синоде, на котором играл главную роль суперинтендант-кальвинист, преемником Теофила был избран выпускник кальвинистской школы по имени Афанасий, который был мало богословски образован для новой должности, но зато, как обнаружилось впоследствии, имел талант народного руководителя. В соответствии с обычаями трансильванской церкви он должен был поехать к митрополиту Валахии, в компетенции которого было рукоположение его в епископы. Там остановился в это время патриарх Иерусалимский Досифей. [237] Он устроил кандидату экзамен и нашел его, как он писал позже, [238] «плохим человеком, чье сердце не созвучно с Богом», но все же дал ему письменные наставления для его будущей деятельности, сопряжённой с теми трудностями, о которых шла речь выше, когда описывалось вмешательство трансильванских князей в жизнь Румынской церкви. [239] Бросается в глаза, что патриарх Досифей, который незадолго перед тем вел в дунайских княжествах активную антилатинскую издательскую деятельность, [240] настоятельно предостерег Афанасия от кальвинистов, но в данном случае, хотя на его родине властвовали австрийцы, не видел никакой причины призывать его к осмотрительности в отношении католиков; преобладание кальвинистов среди трансильванских румын в Валахии, очевидно, считалось бесспорным.
В январе 1698 г. Афанасий был рукоположен в епископы и вернулся на родину. Там он обратился с просьбой о назначении на должность к императору, а не к трансильванскому князю, потому что он слишком хорошо знал, что последний мог бы у него, как у его предшественника, потребовать такие обязательства, от которых предостерегал патриарх Досифей. Тотчас он вступил в переговоры об унии с иезуитами. Он и его синод стремились как можно скорее согласиться на унию с латинянами на базе тех условий, которые были сформулированы в феврале 1697 г. при его предшественнике. Румынам, в случае её заключения, предполагалось гарантировать в перспективе социально-политические права. [241] Уже упоминавшиеся экклезиологические и социально-политические трудности должны были обнаружиться очень скоро.
Кардинал Коллониц, который в качестве примаса Венгрии предпринял последние шаги в отношении унии трансильванских румын, мыслил не во флорентийских категориях и не придерживался инструкций, которые были даны иезуитам. Он считал, что должен требовать от румын совершенного согласия с латинской церковью, как тогда это понимали. Поэтому он велел румынскому епископу при заключении унии признать тридентский символ веры и вменил в обязанность Румынской церкви постоянно иметь иезуита в качестве «богослова», который должен заботиться о том, чтобы западное мышление усваивалось местными христианами всё больше и больше. [242]
Кардинал поставил под сомнение даже церковное достоинство трансильванской Румынской церкви и считал необходимым заново рукополагать при определённом условии (sub condition) желающего унии епископа. Его поддержало в этом принятое большинством голосов решение венского богословского факультета. [243] Из первоначально замышлявшегося процесса общения двух равноправных и равнодостойных церквей-сестёр, каждая из которых сохраняет свои традиции, получилась раздача милостыни румынам со стороны кардинала, который считал свою церковь единственной истинно благодатной. Епископ Афанасий и его верующие оказались включёнными в юрисдикцию примаса кардинала Коллоница, вдохновлённого идеями Контрреформации.
Когда иезуиты вели переговоры с епископом Феофилом и Афанасием в духе Флорентийского собора, тогда их целью было достижение единства между церквами: между всей Румынской епархией и всей Католической церковью. Таким образом, заключённая уния, само собой разумеется, распространялась бы на всех румынских верующих Трансильвании. Когда кардинал Коллониц и епископ Афанасий совершали последний шаг, они всё ещё надеялись, что их соглашение действительно распространится на всех румын Трансильвании. Но их планы не оправдались, потому что некоторые румынские приходы воспротивились епископу Афанасию, когда узнали, что он был хиротонисан второй раз. Поскольку во время переговоров флорентийские соглашения были нарушены, заключение унии стало причиной экклезиологически обоснованного раскола румын.
С церковной унией были связаны и социально-политические предложения, что углубило раскол и по светской линии. Высшие слои населения увидели угрозу в обещании румынам социальных перспектив и стали оспаривать законность значения для всей паствы Трансильванской унии и требовать индивидуального перехода в униатскую церковь. Если бы действительно при помощи унии удалось поднять Румынскую епархию до уровня признанной церкви, это означало бы одновременно серьёзное изменение трансильванской конституции. Тогда румыны, подобно кальвинистам, лютеранам, унитариям и латинским христианам, могли бы претендовать на представительство в парламенте; они стали бы, вместе с венграми, саксонцами и секейями, четвёртой — и самой многочисленной — нацией Трансильвании. А это сузило бы права прежних трёх наций.
Доныне восточные христиане, которые поднимались в социальном плане и добивались общественных прав, вынуждены были присоединиться к одной из ведущих наций. При этом они кардинально меняли свой статус: они должны были принять другую религиозную традицию, должны были уподобиться в обычаях той нации, в которую они ассимилировались; предстояло сменить, по большей части, разговорный язык. Таким образом, обязательный и личный переход был той ценой, которую они платили за расширение собственных прав. Высшие слои были довольны таким поворотом событий, потому что интеграция в другую нацию наиболее способных к продвижению румын лишала румынский народ потенциальных лидеров, а значит, легче можно было держать в рабстве румын, отняв у них лучшие головы.
Неизмеримо велика разница между гарантией общественных прав отдельным румынам при индивидуальном переходе и предоставлением таких прав всей румынской народности в связи с общеобязательными решениями церковного руководства относительно окончания раскола с латинской церковью. Ради социально-политических последствий, которые были связаны с унией, благополучные трансильванские сословия потребовали того, чтобы не решения церковной власти, а только индивидуальные переходы в унию получали законную силу. По их мнению, об унии можно было говорить лишь тогда, когда отдельные клирики или верующие заявляли о своём отходе от прежней церкви и индивидуальном переходе к унии. Власть имущим не было выгодно допустить общезначимого заключения унии, а индивидуальные переходы погоды не делали. Здесь играли решающую роль социально-политические, а не религиозные мотивы. Интересно, что в этом деле католические верхи выступали вместе с протестантскими.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: