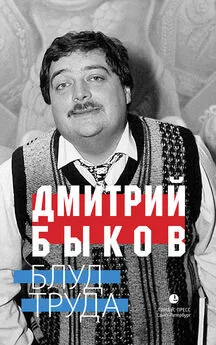Дмитрий Быков - Блуд труда (1994-2002)
Тут можно читать онлайн Дмитрий Быков - Блуд труда (1994-2002) - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: Книги.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Блуд труда (1994-2002)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Блуд труда (1994-2002) краткое содержание
Блуд труда (1994-2002) - описание и краткое содержание, автор Дмитрий Быков, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
29.07.2022 Дмитрий Быков внесён Минюстом России в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Блуд труда (1994-2002) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Блуд труда (1994-2002) - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Дмитрий Быков
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
ПВО ПВО - аббревиатура моего имени. Виктор Пелевин У Пелевина неприятные поклонники. Каждому писателю приходится за них отвечать,- и почти ни у кого нет приятных поклонников. Какие были у Льва Толстого - все помнят. Какие у Пушкина - у-у-у… Виктор Пелевин наиболее любим своей target-group - студенческой молодежью, технократической интеллигенцией, на досуге пописывающей пародии и аналитические статьи… Читать статьи о нем в принципе невозможно - настолько они заумны, когда хвалебны, и огульны, когда ругательны. Главное же - каждый читатель Пелевина (особенно каждый писатель о нем) считает его своей собственностью, а свою концепцию - единственно верной. Любая статья об этом авторе начинается с пинков и плевков в адрес тех, кто писал о нем прежде. Вот и эта не исключение. Но это же прекрасно, на самом деле. Это значит, что писатель стал для каждого своим, интимным, а потому люди и обижаются, когда кто-то другой (да еще в печатных СМИ, а не в Сети) этого писателя приватизирует своими интерпретациями. Так что я не особенно стыжусь, заявляя: почти все, что написано о Пелевине,- не соответствует действительности. Хвалебные статьи сочинены самовлюбленными закомплексованными очкариками, злоупотребляющими околонаучной лексикой вроде «дискурс», «симулякр» и «ризома». Вот пример: «Нельзя не признать актуальными и размышления И.Зотова о судьбах «буриметической» прозы - т.е. такой прозы, которая создается по принципу буриме и в которой семантическая значимость элементов текста приглушается, выводя на первый план способ соединения этих «утративших значение» элементов». Поди пойми, о чем это. Ругательные статьи, в свою очередь, написаны по большей части поборниками духовности и русской национальной традиции, то есть людьми, Пелевина не читавшими. Иначе они - как, впрочем, и апологеты постмодернизма,- давно бы поняли, что никакой Пелевин не постмодернист, а просто один из самых грустных и точных летописцев нашей эпохи, и вдобавок прямой наследник все той же русской традиции - кто-то называет ее «реалистической», кто-то - «высокодуховной»… Текст для Пелевина - ни в коем случае не игра. И главный мотор большинства его сочинений - тоска и омерзение; а уж в этих ощущениях он идеально совпадает с читателем. Этими омерзением и тоской, загнанными, правда, глубоко в подтекст,- достигается та великолепная точность, которая позволяет Пелевину не только смешно и лаконично описывать наше настоящее, но и почти всегда предугадывать будущее. Великая вещь - чудесно преображенная отрицательная эмоция; на таких преодоленных мерзостях только и стоит литература. Именно благодаря способности приятно написать о том, о чем догадываются неприятные люди, писатель и выходит в первый ряд - а место в этом ряду сорокалетнему Пелевину обеспечено, даже если он не напишет больше ничего. Но он, конечно, напишет. По недоразумению он попал в тройку «Пелевин - Акунин - Сорокин»: думаю, сработала трехсложность и окончание на -ин. На самом деле ни с прекрасным пародистом Сорокиным, ни с остроумным стилизатором Акуниным писатель Пелевин не имеет ничего общего (ссорить их не хочу), кроме относительного коммерческого успеха; относительного - поскольку в Штатах писатель с его славой уже не испытывал бы материальных проблем. Впрочем, не думаю, что Пелевин способен испытывать материальные проблемы - в прозе своей он их легко трансформирует, пересмеивает и переводит в область иллюзорного. Уже в ранних своих эссе Пелевин высказал абсолютно точную мысль о том, что бульдозер, разгребая почву вокруг себя и под собой, рано или поздно проваливается в слой подпочвенный, древний. Так, по догадке нашего автора, поступила советская власть, уничтожая христианскую культуру и провалившись в дохристианскую, ритуальную, магическую. Кто отказывается соблюдать сложные ритуалы - обречен соблюдать простые. Поверка советской действительности магическими практиками - затея нехитрая, но чрезвычайно своевременная,- принесла блестящие результаты. На этом приеме был построен весь первый сборник рассказов Пелевина «Синий фонарь». Рассказы эти, конечно, одним этим приемом (используемым почти в каждом) вряд ли достигали бы своего эффекта. ПВО - не столько аналитик и интерпретатор, сколько чистейший, подлинный лирик. Тексты его пронизаны той детской грустью, какая бывает, знаете, в сумерках, когда смотришь с балкона на людей, возвращающихся с работы. Эти взрослые, возвращающиеся с работы, и ребенок, который утром их провожает, вечером встречает, а днем обживает окружающее пространство,- стали потом главными героями лучшего из ранних пелевинских рассказов, «Онтология детства». Это было детство, понятое как тюрьма,- и что поделаешь, мир детства в самом деле нисколько не идилличен, свободы и беззаботности в нем близко нет, а есть тотальная зависимость. Но прелесть и трагизм пелевинского рассказа в том, что это адское пространство обживается у него как райское: ведь ребенок не знает другого мира. Для него каждая подробность нова и полна значительного смысла. Он способен изучать полосу цемента в кирпичной кладке, прислушиваться к выкрикам с далекого стадиона, изучать перемещение тени на полу - пусть даже это тень решетки… В общем, грустно до невообразимости. И уже в «Онтологии детства» зазвучала любимая пелевинская мысль о побеге - «но куда девается убежавший, не знает никто, в том числе сам убежавший». Метафора более чем прозрачная и в расшифровке не нуждающаяся. Можно, однако, сбежать и при жизни - и об этом был «Затворник и Шестипалый». В «Затворнике» - вероятно, самом нежном и романтичном пелевинском творении - как раз и сказалась главная способность этого автора: не сводить реальность к компьютерной игре или другой более-менее остроумной схеме,- но как раз персонажа компьютерной игры, цыпленка, сарай - взять и очеловечить. Пелевин пишет трогательнейшие сказки, в которых сарай физически ощущает в себе тяжелые бочки с ослизлыми огурцами - тогда как раньше в нем стояли веселые и легкие велосипеды; лучшей метафоры старения я в постсоветской словесности не встречал. Да и принц из компьютерной игры у него нарисован «с большой любовью, даже несколько сентиментально» - и он сам нимало не стесняется собственной сентиментальности, вынося в эпиграф к самой жесткой из своих книг, «Generation «П»», цитату из Коэна: «I'm sentimental if you know what I mean»… We know. Вот почему Пелевина - особенно раннего, сказочного периода - так любят дети. Это на самом деле проба безошибочная: дети не будут читать плохую литературу; казалось бы, Сорокин - сколько радости для подростка, а не идет у них это, хотя Сорокин еще не худший вариант… А вот Пелевина дети, повторюсь, обожают: собственная моя дочь стала его читать, проходя первого «Принца Персии» и надеясь найти там подсказки, однако постепенно увлеклась и ознакомилась со всем первым томом. Думаю, что и «Жизнь насекомых» доставит ей не меньшее удовольствие. Там тоже сказка, утешительное сведение всего нашего мельтешения к насекомой возне,- но помимо откровенной брезгливости, с которой эта возня описывается, сколько тут нежности и сострадания! Я начал читать Пелевина в сильнейшем предубеждении - на него уже была мода; случайно открыл «Знамя» на той главе из «Жизни насекомых», где навозные жуки - папа и сын - рассуждали о том, что такое Йа. И чуть не разревелся, ей-богу. Сразу же мне стало дико обидно за этого автора: ну, чего его присвоили такие скучные люди?! Где тут виртуальная реальность, где постмодерн, где издевательство,- когда вся эта сцена дышит такой трогательной отцовско-сыновней любовью? Ну да, это ужасно цинично, наверное,- что мальчику-жуку кажется, будто папа улетел на небо, а это он, раздавленный, к подметке прилип. Но Пелевин-то не смеется, он умеет полюбить папины умные печальные глазки и усики - и нас заставляет полюбить; а чего стоят несчастные конопляные клопы? Мир Пелевина - безусловно мир клеток, тюремных камер, вставленных друг в друга. Но кроме усталости и ненависти, эти клетки пробуждают пронзительную тоску и грусть, которых в сегодняшнем-то нашем мире немного. Такую грусть можно было испытывать только в блочных домах, в спальных районах времен нашего детства, вечером, на балконе. Ведь тоталитарный мир был не только жесток и глуп - для ребенка он был еще и загадочен. Эту детскую страсть к загадкам Пелевин сохранил и теперь - вот почему ему так нравятся заброшенные стройки, чердаки, пустыри, недострой времен сумерек империи. При всей своей глупости и пошлости этот мир был музыкален. Музыка есть во всех пелевинских рассказах первого сборника - в «Водонапорной башне», в «Дне бульдозериста» и даже в «Проблеме верволка в средней полосе». Все это, в сущности,- поэмы в прозе. Вид из окна новостройки на пустырь. И «Омон Ра», в котором тоже при желании можно усмотреть цинизм (достаточно вспомнить стрельбище имени Матросова, с которого мало кто уходит живым),- точно такая же поэма о бессмысленном подвиге, о подземном луноходе, который ездит по шахте метро, о смешной и жалкой империи; мальчик, который в этой империи вырос, не может ее не жалеть. Он больше всего похож на пластилинового летчика в фанерном самолете - Омон в пионерлагере разломал самолет и нашел этого летчика, одинокого, упрямого и трогательного. Рубежным сочинением для Пелевина стал роман «Чапаев и Пустота», частично выросший из раннего рассказа «Хрустальный мир», частично порожденный смутным временем - первой половиной девяностых. Там идея побега развернута подробней и основательней, нежели в «Затворнике». Действует все та же сладкая парочка, которая странствует по всем сочинениям Пелевина: наивный ученик и раздражительный гуру. Вероятно, к «Чапаеву» при желании можно предъявить немало претензий - это вещь неровная, переходная, бродящая, отчетливо распадающаяся на новеллы (лучшая из которых, на мой вкус,- о Сердюке и Кавабате). И нельзя было в такое время написать более гармоничную и цельную книгу, поскольку Пелевин на редкость адекватен эпохе. Он точно почувствовал главное - сходство между этой межеумочной эпохой и временами гражданской войны, абсолютная бессмысленность которой явлена в романе со всею наглядностью. Более того: девяностые были похожи на двадцатые уже тем, что главным настроением (пусть не всегда внятно формулируемым) было тогда подспудное разочарование. Я говорю, конечно, не об олигархах, которые, напротив, должны были испытывать очарование - такие грандиозные хапательные возможности распахнулись перед их мысленным взором; хотя разочарованы, вероятно, были и они - ибо, даже хапнув все, ближе к нирване не становишься. Вместо царствия небесного на земле - в очередной раз настала деградация; бульдозер опять разгреб почву под собой и провалился куда-то еще глубже. Как ни глуп был поэт-декадент Петр Пустота, типичный человек времен распада империи,- но браток, объевшийся грибами, был глупей и проще него. Наступило время, когда поэт мог привлечь к себе внимание, только если «умел читать стихи своей жопой». Побег стал главной целью, idee fixe, единственным занятием пелевинского героя. Помню, как один замечательный прозаик, большой радикал, прочитав «Чапаева и Пустоту», заметил: ну да, все это очень мило, но это же эскапизм… нельзя же вечно ускользать от жизни, бороться надо! Дело в том, что бороться для Пелевина и значит - участвовать. Борются пусть Котовский или Фурманов какой-нибудь. После публикации этого романа Пелевин стал по-настоящему ненавистен профессиональным защитникам духовности. Один из них - неплохой, кстати, критик, но безнадежно узкий человек,- даже назвал его творчество «раковой опухолью на теле русской литературы». Это странным образом напоминает мне одну фразу Блока, записанную Горьким: Блок говорил о том, что мозг - уродливый орган, переразвившийся, избыточный,- вроде раковой опухоли или зоба. Слишком большой мозг всегда кому-то кажется опухолью. Между тем Пелевин, боюсь я, как раз и был в девяностые годы тем самым мозгом отечественной словесности, который напрямую работал с реальностью, осмысливал ее, а не просто играл с ней. Разумеется, для кого-то чтение «Чапаева» или «Жизни насекомых» было данью моде, но ведь и модным Пелевин стал только потому, что был, по сути, единственным. Все остальные литераторы сочиняли для себя или для критиков, которые их обслуживали. Некоторые писали для Букера или для перевода на европейские языки. Пелевин был единственным, кто думал о читателе и о реальности,- помогая первому преодолеть вторую. «Я просто пишу интересные книжки»,- пожал он плечами в ответ на расспросы корреспондента «Observer». И смешные, добавим мы. О причинах его успеха можно говорить долго, употребляя те самые ненавистные ему слова вроде «брэнд» или «таргет труп», упоминая «раскрутку», ссылаясь на «Вагриус»… Но все это, в общем, чушь собачья. Пелевин просто очень умный. В девяностые годы было мало умных - или они растерялись. А он соображает чуть быстрей своего среднестатистического читателя и формулирует чуть точней среднестатистического литератора. Только в этом - секрет его успеха, который в принципе нетрудно и повторить, но никому почему-то до сих пор не удается: происходит какая-то сильно затянувшаяся идея игры и игрушки. Вот почему все так ждали «Generation «П»» - всем было интересно, что за время настало. И Пелевин изобразил его с исчерпывающей точностью. Такой исчерпывающей, что, казалось, пока не сменится эпоха - ему не о чем больше будет писать. В самом деле, зачем повторять себя, когда все уже написано? Одновременно с «Чапаевым» Пелевин пишет (большей частью по заказу глянцевых журналов) несколько рассказов, из которых впоследствии выросло «Generation «П»»: рассказы эти - о новых русских. Именно в это время наш автор высказывает остроумную мысль о том, что новорусский жаргон - единственный сакральный язык современности, поскольку только в блатной среде еще можно «ответить за базар», т.е. заплатить за сказанное жизнью. Отношение автора к этим персонажам отчасти сродни его же отношению к свалкам, пустырям и кружкам Дома пионеров, к прекрасным приметам позднесоветской эпохи,- но в той эпохе была музыка, а в этой нет. Поэтому брезгливость здесь доминирует над жалостью. И все-таки новые русские у Пелевина почти безобидны и мучительно жалки - ведь они-то соблюдают еще какие-никакие правила; что же делать, если на сегодняшний день это единственные люди, для которых слова еще что-то значат и законы, хотя бы блатные, все еще существуют? Одна из лучших пелевинских сказок, написанных во второй половине девяностых,- святочный рассказ о компьютерном вирусе «Рождественская ночь». Этот вирус, созданный безработным инженером Герасимовым, перетасовал все планы братка по фамилии Ванюков; браток этот стал мэром города Петроплаховска, резонно полагая, что лучше отстегивать себе самому, чем кому другому. И вот в результате все распоряжения, приветствия, письма с угрозами и поздравительные адреса пошли не по тем адресам. Дворничихи, долбящие лед на улицах, получили приказание замочить местного авторитета (и замочили), а киллерам пришел приказ - чтобы на центральной улице не осталось ни одного бугра (и не осталось). Проститутки получили наказ защитить честь лыжного спорта. Ну и так далее - очень остроумно; разумеется, это обычная хохма, ни на что другое не претендующая, но в ней есть то, что и делает рождественскую сказку рождественской сказкой: умение обуютить, приручить страшное, сделать его ручным и смешным. Все пелевинские братки ужасно трогательны и забавны. Может, это происходит еще и потому, что век их недолог, как век бабочки. Пелевин любит уходящую натуру - будь то натура советская или братковская; братковская, конечно, погрубей, попроще. Но и она уходит. И по ней уже можно поплакать - без особой, впрочем, грусти. «Generation «П»» при первом чтении показалось мне книгой очень душной, плоской, лишенной глубины, воздуха, пространства,- словом, точной и исчерпывающей, но совершенно безэмоциональной сатирой. К тому же в ней есть куски избыточные, откровенно и намеренно скучные,- вроде трактата, помещенного в середину,- но и он, если вдуматься, на месте. Только при неоднократном перечитывании (а к роману этому, надо признаться, меня все равно тянуло) замечаешь, что эмоция тут очень даже есть - просто на этот раз она загнана глубже. Пелевин ведь писатель необычайно целомудренный. У него редко встретишь любовную сцену, пафоса он чурается, отделываясь намеками, невзначай брошенными фразами… У него в «Желтой стреле» была отличная мысль о том, что, стоя в тамбуре, приходится тысячей сложных способов взаимодействовать с проходящими мимо людьми. Так вот, ни его лирический герой, ни автор терпеть не могут такого взаимодействия. Главное оберегается, прячется; Затворник никогда не признается крысе Одноглазке, что любит ее. Хотя их интеллектуальное партнерство как раз и называется любовью. Так вот, главная эмоция, доминирующее настроение «Generation «П»» - это воющее отчаяние, тоска такой силы, что пелевинские писательские возможности недостаточны для ее выражения - или, точней сказать, пелевинские нервы слишком расстроены, чтобы автор мог позволить себе признаваться в таких вещах. Однако проговорки рассыпаны по тексту тут и там - одна в начале, когда поэт Вавилен Татарский замечает вдруг, что куда-то исчезла вечность. Другая - ближе к концу, когда после очередного приема грибов все тот же Вавилен оказывается в очередном советском недострое и слышит там песню ив, колышущихся и стонущих вокруг: «Когда-то и ты и мы, любимый, были свободны,- зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир?» - А разве это сделал я?- прошептал Татарский. Никто не ответил. Татарский открыл глаза и поглядел в дверной проем. Над линией леса висело облако, похожее на небесную гору,- оно было таких размеров, что бесконечная высота неба, забытая еще в детстве, вдруг стала видна опять. На одном из склонов облака был узкий конический выступ, похожий на башню, видную сквозь туман. В Татарском что-то дрогнуло - он вспомнил, что когда-то и в нем самом была эфемерная небесная субстанция, из которой состоят эти белые гора и башня. И тогда - давным-давно, даже, наверно, еще до рождения,- ничего не стоило стать таким облаком самому и подняться до самого верха башни. Но жизнь успела вытеснить эту странную субстанцию из души, и ее осталось ровно столько, чтобы можно было вспомнить о ней на секунду и сразу же потерять воспоминание». В романе, как и в душе героя, почти нет этой эфемерной небесной субстанции. И любое воспоминание о ней так мучительно, что душа спешит отдернуться, как обожженная. При одной мысли о том, чем ты был и чем стал,- надо либо срочно нажраться мухоморов, либо сочинить очередной рекламный ролик. Потому что иначе с ума сойдешь. Но главный вопрос романа - «Зачем же ты создал этот страшный, уродливый мир?» - уже задан, и с ним ничего не сделаешь; иное дело, что обращать его надо к себе. И в этом есть надежда. В «Поколении» замечательно изображена бессмысленность всего и вся, тогда как с осмысленностью обстоит значительно хуже: она начисто вытеснена. Есть тут и гуру, но он пребывает в постоянном запое. Пожалуй, здесь и сама возможность побега иллюзорна - сбежать можно разве что в рекламу «Туборга». Перед нами одно из самых смешных, но и самых безнадежных пелевинских сочинений; и потому долгая пауза после этого романа - думаю, лучшего во всем трехтомном корпусе канонических текстов нашего автора,- была естественна и ожидаема. Нетрудно догадаться, почему он молчит. Чтобы он заговорил, что-нибудь должно измениться, сдвинуться, должны обозначиться новые противоречия и другие возможности. Должны возникнуть новые ужасы, которые предстоит приручать. Иными словами, реальность должна сойти с мертвой точки, которую Пелевин почувствовал и описал. Думаю, сейчас это движение наметилось. Были сведения, что Пелевин начал и уничтожил несколько книг, одна (детектив по заказу) сама погибла у него в компьютере, к его величайшему облегчению, а одну он временно оставил, поскольку предсказанный в ней взрыв «близнецов» произошел в реальности. И автор всерьез задумался о том, что хватит программировать реальность. Он ведь и кризис 1998 года описал задолго до кризиса - почему в «Поколении» и не пришлось почти ничего менять, когда он наконец состоялся. Мы живем в мире, в котором прежние оппозиции сняты, а новые еще не обозначились. Западники и славянофилы, рыночники и патриоты давно уже равно отвратительны и практически неотличимы. Им на смену идет что-то новое, черты этого нового пока размыты, но в лицах новых людей они уже проступают. У этих людей тормозов нет вообще, они играют совсем без правил и называют себя прагматиками. Возможно, наш автор сумеет приручить, высмеять и одомашнить даже это новое зло. Но для этого требуется время. В любом случае для меня чрезвычайно утешительна мысль, что Виктор Пелевин работает. Он сидит у себя в Чертанове и пишет, превращая наших вождей, наших братков, наши страхи, проблемы, комплексы и мерзости в АБСОЛЮТНУЮ СИЯЮЩУЮ ПУСТОТУ. Р-р-раз - и нету. А что есть? Есть, как и прежде, вид из окна времен нашего детства: вечерняя синева, детская площадка, трое с гитарами, одинокая звезда на горизонте, люди, спешащие с работы, алкаши с пивом, кольцевая дорога за дальними домами нашего спального района. И невыносимая смесь тоски, брезгливости, любви и жалости, которую и называют сентиментальностью. Такие чувства вызывает всякая уходящая натура. Но чтобы они возникли, натура должна уйти. 2002 год Дмитрий Быков Рыжий Борис Рыжий повесился в Екатеринбурге 7 мая 2001 года, а в начале июня ему была присуждена петербургская премия «Северная Пальмира» за книгу стихов «И все такое», вышедшую в Пушкинском фонде. Это первый случай посмертного присуждения «Пальмиры»: преимущество двадцатишестилетнего екатеринбуржца перед питерскими авторами было на сей раз слишком очевидно. Трудно писать о смерти Бориса Рыжего. «К решеткам памяти уже понанесли»: молодые люди очень любят хоронить своих сверстников, потому что это дает им повод для взрослой мужественной скорби. Теснее сплотиться своим несчастным потерянным поколением (у нас всякое поколение считает себя потерянным, начиная с беспрецедентно удачливых детей XX съезда), молча, не чокаясь, поднять горькую чарку… вспомнить товарища, причем все воспоминания строятся по образцу «А меня Том Сойер однажды здорово поколотил»: но увы, мало кто не мог сказать о себе того же самого… С Рыжим та же история; надо сказать, и он, хороня ровесников, погибших по разным причинам и чаще всего от дурости, не избегал соблазна несколько пококетничать по этому поводу. Дело молодое. Между тем реальность вот какова: Борис Рыжий был единственным современным русским поэтом, который составлял серьезную конкуренцию последним столпам отечественной словесности - Слуцкому, Самойлову, Кушнеру. О современниках не говорю - здесь у него, собственно говоря, соперников не было. Самовлюбленный, как всякий поэт, он был еще несколько испорчен ранним и дружным признанием, но с самого начала вел себя на редкость профессионально и кружить себе голову особо не давал. Он знал, с кем дружить и как себя подавать, знал, как и где печататься,- и в этом нет ничего зазорного, ибо в наши времена поэт обязан быть не только фабрикой по производству текстов, но еще и PR-отделом этой самой фабрики. Рыжий чрезвычайно точно ориентировался в литературной ситуации и прекрасно продолжал в жизни ту игру, которую с предельной серьезностью вел в литературе. Феноменально образованный, наделенный врожденной грамотностью, прочитавший всю мировую поэзию последних двух веков, профессорский сын, житель большого города - он отлично усвоил приблатненные манеры, обожал затевать потасовки, рассказывал страшные истории о своих шрамах и любил как бы нехотя, впроброс, упомянуть особо эффектные детали собственной биографии («год назад подшился», «жена-петеушница»…). Насколько все это соответствует действительности, разбираться бессмысленно. Не в этом дело. Был выбран такой имидж, вполне соответствовавший желанию книжного мальчика вжиться в реальность, проникнуть в гущу, набрать крутизны. Книжность мальчика была очевидной и нескрываемой - именно потому, что Рыжий с самого начала публиковал исключительно культурные стихи. Это был юноша не столько с екатеринбургских, сколько с гандлевских окраин («Повисло солнце над заводами, и стали черными березы. Я жил здесь, пользуясь свободами на страх, на совесть и на слезы»). И на этом-то контрапункте, на противопоставлении и соположении музыкального, культурного стиха и предельно грубых реалий возник феномен поэзии Рыжего - то напряжение, которого столь разительно не хватает большинству его сверстников. Он ставил себе большую задачу: любой ценой это напряжение создать и зафиксировать, то есть натянуть струну; мальчикам и девочкам, культурно пишущим о культуре или приблатненно о блатоте, ничего подобного сроду не удавалось. Вот почему Рыжий, собственно, стоял в своем поколении один: никакой Зельченко, никакой Амелин и уж тем более никакая Барскова не могли рассматриваться всерьез рядом с ним. Рыжий был с самого начала демонстративно противопоставлен эпигонам Бродского и терпеть их не мог. Бродский заменял сравнения дефинициями, портреты - пейзажами, старательно вычитал себя из видимого мира, вытягивал кардиограмму в прямую линию, унифицировал интонацию,- и с этой интонацией несколько утомленного всеведения, которое ни от чего уже не ждет новизны и всем пресытилось, обращались к читателю или пейзажу его юные подражатели. Рыжий, и тоже с самого начала, пошел именно по пути максимального сопротивления, то есть попытался поискать для русской лирики альтернативных, небродских путей развития (потому так и любил упомянуть шокирующую деталь собственного быта - чаще всего выдуманную или утрированую - в кругу людей эскюсства). Бродский повесил за собой кирпич - «Не надо за мной!», но толпы эпигонов продолжают срываться в черную воронку его опыта, потому что ничего не могут поделать с главным гипнозом - с интонацией априорного превосходства над всем и вся, за которую Бродский так дорого заплатил и за которую они платить не хотят ничем. Рыжий попытался вернуть русскому стиху музыку - и был полон этой музыкой, и только она, а никак не бедное и бледное содержание, составляет главную прелесть его стихов. Потому и ясно было, что Рыжий как поэт состоялся и что будущее у него есть, даже несмотря на вращение в одном и том же круге уже несколько поднадоевших тем. Кстати, эту его литературную состоятельность с самого начала подметили бродскисты, которым Рыжий мешал и дальше выдавать свою скучную пустоту за вселенскую скорбь: не следует думать, что в случае переезда в Петербург жизнь его сложилась бы уж так безоблачно. Схватка между ним и общекультурными, мнимозагадочными, самодовольными литераторами только начиналась и шла она не на жизнь, а на смерть: «До пупа сорвав обноски, с нар полезли фраера. На спине Иосиф Бродский напортачен у бугра. Рву и я постылый ворот: душу мне не береди! Профиль Слуцкого наколот на седеющей груди». Эти стихи Рыжего, которые то сочувственно, то издевательски цитировались в критике на все лады, на самом деле вполне адекватно отражают литературную ситуацию и литературные нравы. Разборки идут хоть и фраерские, но нешуточные. Именно эта музыка, а не язык и не темы спасала все дело. Здесь как раз у Рыжего был вполне серьезный учитель, который и в жизни ему сделал немало добра,- разумею уже упомянутого Сергея Гандлевского. Гандлевский - фигура сложная, может быть, самая неоднозначная сегодня, поскольку, будучи действительно сильным поэтом, он является еще и крайне пристрастным критиком, то удручающе банальным, то досадно субъективным. Его стихи часто похожи один на другой, но, по счастью, он хоть пишет не так много, как Кенжеев или Кекова. При всех этих пороках Гандлевский - не будучи ничьим прямым учеником, хотя и много, со знанием дела цитируя,- привнес в отечественную словесность очень важную и чистую ноту. Это не мертвая классицистская, имперская скорбь Бродского, а живая и пронзительная городская печаль. Что может быть прекраснее и грустнее лета в городе? Все, кому надо, разъехались, все, кому надо, остались. Во дворах бренчит непременная гитара, ухает пыльный мяч, стучат в домино. Дворовая эта культура, в меру блатная, в меру интеллигентская, запечатлена в нашей словесности только у Дидурова, Гандлевского и Рыжего. На всем тут лежит отблеск ностальгии, начинающейся еще до того, как миновала эпоха или закончилась молодость. Гандлевский ностальгирует ДО того, как прошлое пройдет, и отсюда его своевременное милосердие, его мягкость, его нежелание судить. Как ни странно, у Рыжего была та же мягкость и нежность (возможно, потому, что печать обреченности лежит в его стихах не только на пейзажах, не только на домах и доминошных столах, но и на авторе и его приятелях, которые ежечасно могут погибнуть в очередной поножовщине; с литературной точки зрения не так уж важно, действительно ли погибнут,- но эта гибельность входит в условия игры). Каждый глоток начинает восприниматься как последний, каждая случайная девчонка - опять же как последняя; так происходит подсознательное придание особого значения каждому событию и слову. Они подсвечиваются смертью, потому что больше их подсветить нечем: история не предполагает напряжения, эпоха не дает повода для лирики. Остается трагизм личного бытия, экстремализация его до той степени, при которой становится возможным прямое лирическое высказывание. Наша поэзия загублена, задавлена иронией,- Рыжего это не устраивало, то есть, будучи достаточно ироничен, он никогда не снижал пафоса. Серьезная лирика невозможна там, где слово ничего не значит, где дело ничего не весит, где нет абсолютных понятий и бескомпромиссных столкновений. Гандлевский был все-таки сформирован более структурированным, хотя не менее гнилым временем,- семидесятыми. Немудрено, что в поисках абсолютных ценностей Рыжий обращается к ценностям… то ли дворовым, то ли блатным, но в любом случае таким, отступление от которых серьезно карается. В свое время Пелевин носился с идеей перевода главных священных книг мировых религий на блатной язык; на недоуменный вопрос, зачем ему это нужно, он ответил с истинно пелевинской точностью: сегодня блатной язык единственно сакрален. То есть за его неправильное употребление можно заплатить жизнью. Сакральность, ритуал, ответственность остались только среди криминала; это последняя сфера, где отвечают за базар. Разумеется, это заблуждение, типичное для интеллигента: как раз криминальная сфера и отличается выдающейся беспринципностью, то есть фантастической способностью приноровить любой закон к конкретной ситуации. Когда деградирует система, деградирует и уродливое ее отражение - блатота, где давно нет никакого закона и прав тот, кто жив, тот, кто максимально омерзителен. Отсюда интерес Рыжего именно к старым ворам, которыми он обильно населяет район своего детства. Эти благородные, почти рыцарственные престарелые мастодонты, ветераны сучьих войн, неизменно выступают у него как защитники и наставники. Он и Слуцкого, боюсь, воспринимал сходным образом… Естественно, на фоне насквозь книжной и вторичной уральской поэзии Рыжий блеснул необычайно ярко. Об уральской поэзии, которой, в сущности, нет, тут воленс-неволенс придется сказать подробно (volens nolens [3]- потому что говорено было достаточно, и все без толку, по полной неспособности уральцев услышать кого-либо, кроме себя). Провинциализм кальпидианцев вовсе не в том, что они живут в Перми, Челябинске и Екатеринбурге, а в их безнадежной и унылой вторичности. Жители мрачных уральских промышленных городов с их черными сугробами и тяжелой экологией с редким постоянством дуют в одну и ту же дуду: их поэзия - странный гибрид из несчастного, вновь и вновь выныривающего Бродского (но что делать, этот сильный демон наложил-таки свою лапу на все следующее поколение), из Ивана Жданова и Еременко (гибрид которых представляет собою прославленный, насквозь вторичный, чрезвычайно пафосный Кальпиди), из Цоя и Башлачева,- и все это, как на шампур, насажено на культ саморазрушения, который в значительной степени создал всю энергетику свердловского рока и отчасти - логику свердловского обкомовца. Недобирая оригинальности, социальной точности и обычной музыкальной грамотности, русский рок всегда добирал за счет культа ранней смерти; противостояние Петербурга и Свердловска здесь тоже было весьма заметно, как и в лирике. Петербург спасается культурой и иронией (которые, однако, в избыточных количествах тоже резко снижают планку) - Свердловск брал мрачной торжественностью, которую адекватнее всего воплотил «Hay» и которая именно сейчас оказалась вновь востребована, судя по успеху «братских» саундтреков и прямым цитатам из Бутусова во всей современной рок-попсе. Уральская школа - что в лирике, что в роке,- всегда сводилась к набору штампов, к подчеркиванию своего трагического геополитического положения (провинция, экология, грязь, смог, наркота, влияние буддийского востока) и к культу ранней гибели. Отсюда - обилие эпитафий в любой уральской антологии, беспрерывные упоминания умерших, погибших, убитых в драке друзей… И Рыжего эта зараза коснулась не в последнюю очередь - резко выламываясь из своей генерации по уровню, по таланту, по эрудиции, он принадлежал к ней по образу жизни, он зависел от этой среды, хотя и беспрерывно восстанавливал ее против себя. Поэт упивается смертью, когда ему нечем жить, когда он не может найти в жизни ничего, что могло бы обеспечить его текстам хотя бы минимум напряжения и силы. Но поэт обречен всерьез расплачиваться за то, во что играют, как в бирюльки, его графоманистые сверстники. Когда они пьют - поэт спивается, когда они не живут, заменяя жизнь тусовкой,- поэт умирает. Я не могу сказать, что уральская среда в какой-то степени ответственна за гибель Рыжего (хотя в душе убежден, что ответственна: просто такие обвинения требуют более серьезной аргументации, а время для нее еще не пришло, все слишком недавно случилось). Я говорю только, что традиции и нравы этой среды служили Рыжему источником столь дефицитной в наше время энергетики - и, как истинный поэт, он за нее расплатился. Это не значит, что не расплачивались другие. Молодые екатеринбургские поэты охотно играют в игры своей тусовки - алкоголизм, скандал, саморастрату, перманентную драку, «проклятость», в гибельность… Некоторые из них гибнут очень рано. Это вовсе не значит, что гибнут достойнейшие и талантливейшие. Гибнут честнейшие - те, кто играет всерьез. Но это далеко еще не означает, что ранней смертью можно купить достойную поэтическую судьбу: в том-то и ужас, что нельзя. Биография вообще часто оказывается довольно фальшивой монетой. Поскольку культ гибели в провинциальной лирике сформировался давно (тут немалую роль сыграли кризис и гибель Башлачева и Дягилевой, черные эксперименты Летова), автор предпочитает умереть, когда ему нечего сказать. Тогда его по крайней мере помянут кенты. В России стало как-то подло быть живым… И Рыжий, кажется, оказался в плену этой дикой традиции: когда от него потребовался метафизический скачок, качественный рост (круг прежних тем был слишком наглядно исчерпан) - он начинает все чаще заговаривать в своих стихах о смерти, которая постепенно превращается в главный источник вдохновения, главный, если не единственный, способ самоподзавода. В один ужасный момент за это приходится платить. И тогда вместо прыжка в новое измерение делается прыжок в никуда. А то, что способности для перерастания себя, перспективы развития у Рыжего были,- сомневаться невозможно. Речь даже не об ответах на вызовы времени, на те самые главные вопросы, в равнодушии к которым его часто упрекали,- поэт отвечает не словом, а звуком, и где есть музыка, там вопросов нет. Невероятная легкость и естественность его стихов говорила о редкой внутренней силе, о способности переплавить в литературу что угодно - и силы для этого рывка у него были, потому что, все сказав о своей дворовой юности, он далеко не все сказал о себе. О причинах его самоубийства можно гадать долго, тем более, что занятие это вполне бессмысленное. Точнее других высказался Кушнер: «Говорят, он чувствовал, что исчерпал себя. Вздор, в двадцать семь лет из-за этого с собой не кончают». Скорее всего, дело было действительно в замене поэтического усилия - биографическим фактом, в жизнетворчестве, которым с легкой руки модернистов и с тяжелой, вялой руки постмодернистов так часто заменяется собственно творчество. Отсюда были знаменитые скандалы, сопровождавшие всякое появление Рыжего на публике (в Москве и Питере он старался себе подобного не позволять - тут делались биографии, затевались подборки и фестивали). У Рыжего есть отличное стихотворение, тоже часто цитируемое: «Россия - старое кино. Когда ни выглянешь в окно - на заднем плане ветераны сидят, играют в домино. Когда я выпью и умру, сирень замашет на ветру и навсегда исчезнет мальчик, бегущий в шортах по двору. И седобровый ветеран опустит сладости в карман и не поймет: куда девался? А я ушел на первый план». Ужасно, если уход на первый план сегодня может осуществиться только такой ценой. Напрасно, кстати, наша пресса замалчивает эту тему - в последнее время поразительно много стало ранних и нелепых смертей. И самоубийств тоже. Выбросился из окна лучший российский кинокритик Алексей Ерохии, которому в новой реальности негде было печататься и не о чем писать, а угождать глянцевым идиотам он устал. Подожгла себя Елена Майорова (и даже если здесь мы имеем дело с душевной болезнью - у современного актера, особенно если он не из маститых, хватает причин для того, чтобы эта душевная болезнь развилась и стала необратима). Незадолго до Рыжего погиб екатеринбургский поэт Роман Тягунов. И кроме того - мало ли мы видели виртуальных самоубийств, когда из искусства уходили люди, уставшие от непрерывной борьбы за существование, от грызни и политесок литературного цеха, от диктатуры ничтожеств и пиарщиков. Сколько отличных молодых поэтов начали прежде времени скисать и повторяться, сколько прозаиков ушло в коммерсанты, а режиссеров - в клипмейкеры! Говорите, настоящие не уйдут? Не торопитесь. Да и вообще, не слишком ли жесток такой естественный отбор? Наше время не потому плохо для искусства, что творцу не на что жить. Это бы Бог с ним. Наше время сместило критерии, а потому утратило необходимую для литературы и искусства атмосферу напряжения, живой творческой полемики, нравственного усилия. Попытки восстановить эти критерии, прожить полноценную творческую жизнь кончаются трагически: так было у Луцика и Саморядова, так было и у Рыжего. …Сейчас его часто сравнивают с Есениным. Как же - повесились оба! На самом деле с Есениным у Рыжего как раз нет ничего общего. Есенин был во всем вызывающе неинтеллигентен, и касалось это не только его попоек и драк, но и его крестьянской прижимистости, его вполне потребительского, часто просто скотского отношения к женщине, его внезапной готовности сделать гадость и посмеяться. Рыжий был интеллигентный и дисциплинированный поэт, рассчитанный на долгую и серьезную жизнь. Людям, которые сбили его с панталыку, еще припомнится это поощрение худшего в нем, эта среда, в которой дисциплина не котировалась, эти игры, которые кончаются гибелью. И эта тотальная ложь, которую поддерживают критики, обслуживающие уральский клан. Потому что Рыжий своим приходом этот клан отменил, показав ничтожествам их истинное место,- а этого не прощали еще никому. Теперь выход у этого клана один - срочно Рыжего присвоить и канонизировать, сделать его своим знаменем и выпустить книгу мемуаров о том, как он был невыносим и этим особенно мил. Впрочем, со стихами его все равно уже ничего не сделаешь. Они останутся едва ли не единственным светлым пятном в истории русской поэзии конца двадцатого века, и многие еще люди, читая их, раздумают делать то, что так страшно и рано сделал над собой Борис Рыжий. 2001 год Дмитрий Быков Блаженный Булгаковский Мой любимый писатель - Дмитрий Гаврилович Булгаковский. Противно любить того, кого любят все. Сбылась давняя мечта: моего любимого писателя никто сегодня не знает. Из десятков его книг даже в Ленинке присутствует едва половина. Его имени нет в литературных энциклопедиях и словарях. В картотечной росписи он помещается аккурат между Булгаковым и Булгариным, чем довершает триаду доминирующих типов русской литературы. В наше время, чтобы написать о любимом писателе, лихорадочно ищешь информационный повод: стодвадцатипятилетие со дня литературного дебюта, двести лет со дня помолвки, стопятидесятая годовщина окончательного разочарования в русском освободительном движении. Всем подавай календарный предлог. Как будто никому не интересны мои умные мысли! На самом деле к разговору о Булгаковском, конечно, есть прямой повод. Но это объяснится по ходу, и вообще sapienti sat. [4]На любимого автора я вышел по чистой случайности, подбирая себе литературу по ходовой теме «Азартные игры и их история под сенью родных осин». В картотеке Ленинки азартные игры помещаются в одном ящике с самоубийствами и алкоголизмом: антология самоуничтожения. В качестве пособия наряду с десятком англоязычных монографий красовалась книжка Булгаковского «Не беда ли?». Книжка эта состоит из десятка поучительных историй о вреде азарта. Булгаковский творил на рубеже веков. Прочитав обложечный список остальных его брошюр, я понял, что это мой писатель. На счету Булгаковского роман и пара повестей, но замечателен он не ими. Всю свою жизнь, с последних десятилетий того века и до 1916 года (дата выхода последних публикаций, но, может, он прожил дольше?), он занимался просветительством. В этом смысле он был энциклопедист. Он творил в жанре чрезвычайно распространенном в эпоху народничества и последовавшее за ним десятилетие посредничества. Толстовско-чертковский «Посредник» - только одна из моря книжных серий для простонародья. Список сочинений Булгаковского говорит сам за себя. Он выпускал путеводители, книги по истории, хрестоматии «Что думает русский народ о пьянстве?» и пособия по бессмертию души. Нет такой области, в которой Булгаковский не мог бы дать русскому народу нескольких полезных советов. Советы эти довольно специфичны, но трогательно узнаваемы. Напрасно, например, стал бы русский солдат в 1914 году искать в книжке «Во время войны» практические рекомендации на случай газовой атаки. Вся двенадцатистраничная брошюра Булгаковского состоит из сентенций вроде: «Мы, русские люди, до того любим свою Родину, что любовь наша переходит у нас в пламенное чувство. А Царь?! Как это слово отрадно и близко русскому сердцу! Как солнышко на тебе, так Царь в русской земле. Он наш любвеобильный отец, а мы его верные и послушные дети. Пошлет ли Бог неурожайный год и не хватит хлеба в крестьянской избе (да кто ж это хранит хлеб в избах, на это есть рига.- Д.Б.),- Он, Кормилец, как Ангел-Хранитель, узнает про нужду и горе крестьянское и спешит помочь несчастным. Стрясется ли над русскою землею, по Божьей воле, другое лихо - падеж скота или повальная болезнь на людей, и тут Он, Благосердный, подает свою руку помощи». Булгаковский и в этом печальном случае - падеж скота или другое какое лихо - не преминул сослаться на Божью волю во избежание атеистических и богоборческих настроений в крестьянской среде, о чем позже. Все это пишется в начале долгой и кровопролитной войны, в нищей стране, после кровавого воскресенья и за четыре года до убийства Николая II и его семьи. Венчается брошюра вполне пламенно: «Подналяжем на немца и австрияка всеми силами, проучим их, чтоб неповадно было им в другой раз зариться на чужое добро». Булгаковский искренне полагал, что своим сочинением воодушевил русские сердца на битву до победного конца. Не менее трогателен он в попытках скомпрометировать кабак и карточные игры. Здесь он оседлывает своего конька - нравоучительные истории. Карамзин нашел в его лице прямого наследника. Ком, право, стоит в горле, когда заводит Булгаковский свою жалобную песнь о разорении скромного чиновника, который тихо жил себе со старушкой-матерью и молодой красавицей женою в одном из домов на Петербургской стороне. Раз злые сослуживцы заставили нашего скромника сыграть в вист, пошла карта, и с тех пор несчастный пристрастился к пагубной игре. Надежда забрезжила для его семьи, когда героя перевели в Симбирск на строительство железной дороги,- но там он проиграл казенные деньги и застрелился, жена его умерла горячкою, а старушка-мать, переселясь в каморку и не имея чем заплатить за нея, сошла с ума от горя. Представьте все это изложенным с ятями, с твердыми знаками, придающими русской письменной речи такую трогательную, стариковски-кроткую интонацию: всякий твердый знак в конце слова - словно сдавленное рыдание или горькое поджатие старческих губ после особенно страшной фразы. «Такъ погибъ человекъ достойный и скромный, порубленный безжалостнымъ порокомъ». И как жалок этот бедный, непроизносимый твердый знак - ненужная, но очаровательная условность, пленительное усложнение жизни, вроде хороших манер или заранее оговоренных тем для трезвой застольной беседы! Соблюдение таких архаичных условностей как-то систематизирует жизнь, вводит ее в рамки цивилизации - и не случайно всякая революция начинает с упрощения орфографии и заканчивает снятием табу на кровопролитие. Такъ-то. «Терзание одно». «Жалость вяла». «Позднее раскаяние». «На крестинах». «Рушилась семья, с рисунками». «Живем ли мы по-христиански?». «Будем ли мы жить вечно?» Надобно заметить, что Булгаковский вполне овладел приемами изготовления назидательных новелл, и, хотя все его истории строятся по одному чертежу, средний крестьянин или ремесленник должен бы их читать с неослабевающим интересом, потому что всегда ждешь, каким способом на этот раз автор погубит процветающую семью. Почти все истории начинаются с картины семейного счастия и достатка: «лошадка, коровка и пять штук овец». Далее кормилец либо соглашается на уговоры сомнительных дружков, и за первою чаркой с неотвратимостью рока следует вторая, после чего очередной Иван (Андрон, Михаил) замерзает в поле, оставляя деток сиротами,- либо счастливо избегает замерзания, но смертным боем бьет жену и спускает последнее барахлишко, которое детки донашивали по очереди. Возможно, интерес читателя к историям Булгаковского подогревается модной страстишкой: всякому любопытно почитать про крах чужого благосостояния, и потому на деревенский пожар сбегается столько любопытных. Но так или иначе, рассказы Булгаковского и отбираемых им авторов могли если не отвратить от вина (тут и Толстой не сдюжил, даром что был глыба), то хотя бы запасть в душу, чтобы читатель при случае пустил пьяную слезу и жахнул кулаком по склизкой стойке. Если Ломоносов был первым нашим университетом (и за это сподобился отдельного жизнеописания с приложением световых картин), то Булгаковский был вторым. Он мог научить жизни нижние чины при увольнении в запас и разъяснить крестьянину вред сырой воды. Во втором случае он сдобрил свое пояснение картинкой и подписал под нею: «Гадости (инфузории) в воде». Носатая и хвостатая нечисть показательно резвится в преувеличенной капле. Непонятное, зазубренное словцо «инфузория» долго будет в сознании крестьянина синонимично слову «гадость», наряду со словами «интеллигенция», «трансценденция» и «мораль». …Из нашего культурного сознания совершенно выпал тот подспудный, подпочвенный пласт русской литературы, который служил питательною средой и выигрышным фоном для матерых человечищ. Мы помним басни и рассуждения из толстовской «Азбуки», но напрочь забываем о толпах толстовцев, которые сжигали лучшие годы в бесплодных попытках рассеять всевластную тьму. Сотни сердобольных пожилых писательниц посвящали себя общественному служению, заполняя «Душеполезное чтение» и «Задушевное слово» слезоточивыми рассказами из тяжелой крестьянской жизни. «Над деревней Твердохлебовской опустилась темная осенняя ночь. Сильно коптивший ночник освещал слабым мигающим светом незатейливую обстановку избушки». Так начинается один из женских рассказов в антиалкогольной хрестоматии Булгаковского - рассказ о несчастной Фекле, которую жестоко избил пьяный муж, и бедняжка, не утерев еще кровь со лба, отбивает перед иконою земные поклоны. Эта «незатейливая обстановка избушки» - могучий символ всей русской литературы на тему «бедный народ». Жалость русской интеллигенции к народу простиралась ровно до тех пор, чтобы не повредить собственному комфорту,- то есть чтобы народ и дальше можно было жалеть, вечно томясь невозможностью отказаться от собственного дохода. Потребляя еду и живя в незатейливых хоромах, надобно было как-то отдать народу долг,- и Булгаковский со товарищи вполне серьезно полагали, что отдают этот свой долг просветительством. На всех своих изданиях после 1900 года Булгаковский со скромным достоинством помещал сообщение: «На Парижской Всемирной выставке 1900 г. по отделу социальной экономики за световые картины и альбомы с бытовыми картинками из жизни людей, преданных пьянству, издатель их удостоен серебряной медали». Тут же и медаль. Булгаковский издавал свои брошюры в типографиях петербургских тюрем и многочисленных работных или воспитательных домов. Впоследствии он обзавелся и собственным издательством, размещавшимся на Большой Зелениной, 9. В этом мне видится знак судьбы. Он был почти мой сосед. На Большой Зелениной, дом к дому, живет петербургский поэт Нонна Слепакова, у которой я всегда останавливаюсь в Питере. Это та самая Нонна Слепакова, которая написала ныне уже народную песню, дословно дублирующую один из рассказов Булгаковского: И скоро в трактирах Симбирска С подрядчиком он закутил, Под рокот гитары забылся, С цыганкой любовь закрутил… Летели, шурша, сторублевки, Как рой легкомысленных пчел… По соседству жил Блок. Большая Зеленина упирается в тот самый мост, на котором происходит второе действие «Незнакомки», а почти напротив дома номер девять расположен тот кабак, в котором великий поэт был пригвожден к трактирной стойке. Он не читал брошюр Булгаковского. Тесен мир! Своей мрачной эротикой упивался Сологуб, его босые девушки служили Триродову, а Триродов, в свою очередь,- народу. Леонид Андреев метался из «Тьмы» в «Бездну». «Огненный ангел» Брюсова поджигал устои. Гумилев добивался взаимности Ахматовой. А блаженный, благонамеренный Булгаковский все писал и писал свои учительные брошюры. На этой питательной среде возрастали Чехов и Куприн. Их земские врачи и учителя, агрономы и землемеры, брадатые Астровы и строгие Лидии просвещали российскую тьму и диктовали сопливым девчонкам: «Вороне где-то Бог. Послал. Кусочек сыру. Кусочек сыру». Земские светочи культуры спивались, пьяно ссорились, беспросветно пили и необратимо тупели. Разве что Толстой умел кой-как находить общий язык с бедным народом - и то за счет роднящего их цинизма. С Толстого сталось как-то при толстовце, вовсю разливавшемся, как ему стало хорошо после перехода на вегетарианство,- встать и сказать громким шепотом на ухо Горькому: «Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное». Художнику вообще цинизм потребен: без него невозможно достичь высоты взгляда. Поэтому Булгаковский художником не был. Сельские врачи и учителя толпами ходили к Толстому и Чехову на прием и изводили их своими комплексами, окающими философствованиями, жалобами на беспросветное пьянство и жестокость народа. Толстой и Чехов их выслушивали и в глубине души прекрасно понимали, что все это бред собачий и воздействовать на народ надобно как-то совсем иначе. Чехов весьма скептически относился к помещениям своих текстов в народные библиотеки. Толстой фанатично писал азбуки и пособия, но циничным писательским умом оба сознавали власть тьмы, увязание коготка и обреченность всей птички. Булгаковский не был циником. Он верил, что делает благое дело. Поэтому он мой любимый писатель. Он мостил дорогу к светлому будущему своими благими намерениями. Немудрено, что его художественное сочинение - повесть «В стороне от жизни» - посвящено спорам сельских священников с агрономами и учителями. Главный положительный герой, отец Павел Воскресенский, хочет сложить с себя сан. О. Павел делится своими мыслями с агрономом и удостаивается полного одобрения. Страшно далеки мы от народа, говорит о. Павел. Не надо учить людей добру - оно и так в их природе. Надо только научить их, как раскрепостить это добро, выпустить его на волю и претворить в конкретные дела. Обрядность и догматизм вредят священнослужителям, надобно служить Богу иначе… Хорошая повесть. Не худо бы переиздать. Впрочем, сама книга эта клинически показательна для времени и личности автора. Обе части заканчиваются одною и тою же фразой: «С ней сделался глубокий обморок». Левая рука русского интеллигента, как всегда, не знает, что делает правая: о. Павел, протагонист, осуждает приписывание Промыслу любых болезней и бед, говорит о «естественных причинах», и страшно сказать, отвергает религиозный детерминизм; сам Булгаковский приписывает голод, падеж скота и прочие напасти Божьей воле и преподает крестьянам христианскую мораль в самом общем и догматическом виде. Вечная двойственность интеллигентского сознания плюс дикая ошибка наборщиков: половина глав из первой части выпала, зато половина глав второй набрана дважды, и в сюжетной путанице с первого раза не разберешься. Книга издана в 1909 году. Типография носит символическое название «Народная польза». Булгаковский - самый типичный из всех известных мне представителей учительного направления русской литературы. Русская интеллигенция вечно стремится оплатить свой долг перед народом тем, что претендует на роль его совести. Надобно признаться, это не самое большое достижение русской интеллигенции. Вообразите: в небогатый интерьер вашей избушки вваливается человек в пенсне, в неловко сидящем тулупе (явно для маскировки) и принимается утверждать, что он вам должен. «Помилуйте, барин,- говорите, естественно, вы.- Отродясь вы у меня ничего не брали… хотя оно, конечно… ежели бы штоф…» «Нет, Ваня, я брал!- плачет гость.- Я на горбу твоем еду! Ты темен, ты непросвещен, но я у тебя в вечном долгу, ибо - видишь ты эти руки? видишь, я тебя спрашиваю?! Они не сеют, не жнут, не жмут! Эрго, я виноват. Но я отплачу тебе сторицею, Ваня! Я буду теперь твоя совесть». «То есть как?- недоумеваете вы.- Совесть - оно конечно, без совести и овес не родится, но у меня уже как бы есть своя!» - «Какая у тебя совесть, Ваня, ежели у тебя лампадка коптит и вообще ты темен! Дай-кось я тебе еще иконку повешу - это, Ваня, Маркс, это Пастер, а это граф Толстой, он моя совесть, а я буду твоя. Моешь ли руки перед едою? Живешь ли ты по-христиански? Бьешь ли страдалицу-жену свою?!» Ну что ты будешь делать. Пущай. Однако ж, согласитесь, это как-то обременительно, ежели пять твоих совестей всенародно друг друга тузят, борясь за монополию на абсолютную Истину. Опять же не вполне прилично, когда солью земли объявляет себя прослойка, имеющая к соли не больше отношения, чем к земле. Когда же добрая дюжина пророков начинает учить соотечественников, на полном серьезе полагая, что просвещением можно добиться смягчения нравов,- тут уж пиши полное пропало и берись за топоры. Прочитавши Булгаковского, можно и в самом деле запить горькую. С поразительной чистотой, наивностью и верой он преподает свои прописи вполне здравому и трезвому младенцу, который, поди, и побольше его понимает об жизни. Потенциальный трезвенник и благополучный поселянин до поры до времени кивает, а потоЧитать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать