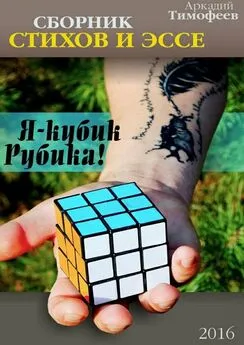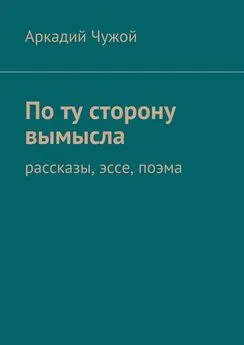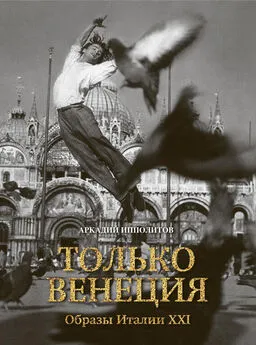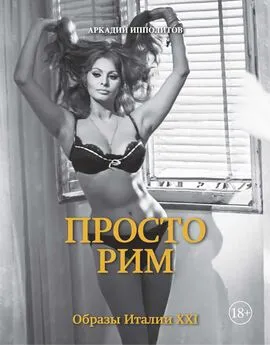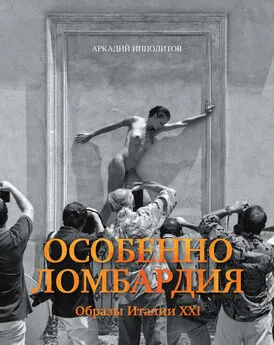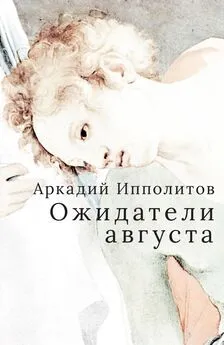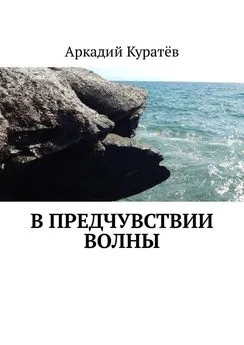Аркадий Ипполитов - Эссе 1994-2008
- Название:Эссе 1994-2008
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Ипполитов - Эссе 1994-2008 краткое содержание
Эссе 1994-2008 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для такого принципиального марксиста-максималиста как он это означало физическую смерть. За время своего влияния, как и полагается правоверному большевику, Филонов ни копейки не нажил. В тридцатые начинается настоящий голод, и его дневник пестрит душещипательными подробностями нищенского существования на хлебе и чае, последней лепешки из сэкономленной муки. Ни одной картины при этом он не продал, считая их достоянием пролетариата, которому он был предан душой и телом. Он при этом брезговал левыми заработками, все свои силы отдавая воспеванию Формулы мировой революции.
В первые же месяцы ленинградской блокады Филонов погиб от истощения, абсолютно не нужный и забытый боготворимым им Союзом Советских Социалистических Республик. Ни слова ропота против отвергнувшей его коммунистической власти у Филонова не вырвалось, он всегда ощущал себя «художником мирового расцвета - следовательно, пролетарием». Своих картин он никогда не продавал, все они оставались в его мастерской, и он завещал передать их Русскому музею, главному музею Ленинграда, города трех революций. Музей принял дар не сразу, только в семидесятые годы, куда творческое наследие Филонова было отнесено его сестрой, Евдокией Николаевной Глебовой, чтобы долго томиться в запасниках горой невостребованных сокровищ, привлекая страстный интерес либерально мыслящей интеллигенции и западных русистов-специалистов. Проникнуть в запасники Русского музея до перестройки было так же тяжело, как проникнуть в сокровищницу Кощея Бессмертного, и так же желанно. В отличие от Василия Кандинского, реализовавшегося в Германии и Париже, Ларионова, Гончаровой и Шагала, сделавших себе имя во Франции, или даже Казимира Малевича, известного на западе с двадцатых годов, Филонов оказался наиболее закрытым художником.
Филоновские картины буквально излучают физическое страдание. Воспринимать их - огромный труд, так как скрупулезная и дробная сделанность, на которой маниакально настаивал художник, воздвигает физически ощутимые препятствия для глаза, карабкающегося по бесчисленным сегментам расщепленной формы, топорщащимся в разные стороны. Живопись Филонова прямо-таки обдирает зрение, так что возникает ощущение, как будто приходится чистить тупым ножом живую извивающуюся рыбу. Страшные, деформированные страданием и злобой лики людей, истощенных лишениями, грубые и исхудалые тела с тонкими руками и натруженными кистями, тоска недоедания в глазах, кровавая яркость колорита заспиртованных внутренностей из кабинета патологоанатома. И внутренне свечение, пробивающееся изнутри, и окутывающее призрачный мир монстров тонкой пеленой нежного сочувствия, звучащего, как колыбельная, пропетая в холодном бараке сентиментальным рецидивистом.
Мучительная экспрессия Филонова практически не имеет аналогий в мировом искусстве. В сравнении с его картинами, написанными поволжским голодом, немецкие экспрессионисты Георг Гросс и Отто Дикс кажутся просто благополучными бюргерами, переживающими из-за девальвации марки. Филоновское страдание затягивает, как в мясорубку, все ощущения зрителя, перемалывая их в страшный фарш из человечины, каким художнику представляется Человечность. Этот гимн пролетарской революции и мировому расцвету пролетариата ужасен и величественен.
Крах коммунизма вызволил мученика мировой революции, превратив его гимны рабочему классу в хиты для услаждения мировой художественной тусовки. Сегодня филоновские картины стоят миллионы на буржуазном художественном рынке, а его страдания получили конкретную цену. Имя Филонова обеспечивает успех любой выставке, и все музеи мира все время запрашивают его работы на свои выставки. По большому счету Филонов открылся публике после перестройки, и старая западная буржуазия, а также новая отечественная, проявляют к нему куда более живой интерес, чем страстно любимый им пролетариат, который его попросту не знает. Выставка в Русском музее показывает живопись Филонова с изощренностью фантазии отечественного концерна, продвигающего якутские бриллианты на мировой рынок. Нефть, алмазы, черный квадрат и Филонов, это же самое дорогое, что у нас есть. Дорогое же в нашем понимании - конвертируемое.
Победа это или поражение для художника, мечтавшего встать «в центре мировой жизни искусства, в центре маленькой и передовой кучки рабочих»? Интересный вопрос для истории русской духовности.01.09.2006
Статьи в журнале "Русская жизнь"
Три Елизаветы
Императрица Елизавета Алексеевна, Лизавета Смердящая и великая княгиня Елизавета Федоровна
Аркадий Ипполитов
Рассуждение Стерна о власти имени над судьбой человека всегда относилось к моим любимым литературным фрагментам. Действительно, имена определяют все, хотя ничего не гарантируют, и это знает каждый, кто когда-либо занимался выбором имени своего ребенка, или племянника, или хотя бы ребенка знакомых. Или, по крайней мере, имени кошки или собаки. Важнейший ритуал, отсылающий к книге Бытия, когда "Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей". Трудный, без сомненья, выдался для Адама день.
Любое имя, конечно, индивидуально, пройдя сквозь толщу времени, оно приобретает весомость, втягивая в себя тысячи и тысячи судеб людей, реальных и вымышленных. Смысл имени разрастается до размеров обобщения, значение, изначально заложенное практически в каждое имя, обретает плотность и явность символа, становясь все более и более определенным и законченным. Имя очерчивает границы судьбы, и перемена имени всегда означает желание разрушить эти границы, будь то выбор псевдонима, подделка документов, переход в иную веру или смена подданства и языковой среды.
Помню, как когда-то очень давно участвовал в одном из обсуждений имени дочери кого-то из знакомых, которая вот-вот должна была появиться на свет. Среди множества предлагавшихся имен мелькнуло имя Елизавета, очень красивое, давно мне нравящееся, но, как было сказано, опасное и отклоненное на том основании, что, согласно старым поверьям, все Лизы обаятельны и легки, но всегда убегают с гусаром в весьма раннем возрасте, доставляя родителям массу хлопот. Все это мне запомнилось, так как было похоже на правду, соответствуя звуку имени Елизавета, чем-то напоминающему о зелени первой травы, пробившейся сквозь прошлогодние листья, о расцветших на черных ветках весенних цветах слив и вишен, о горьковатом запахе лаванды и о прочих поэтических вещах, но с острым присвистом "з" в середине, звучащим как мгновенный порез хорошо отточенным ножом, столь же глубокий, сколь и незаметный, опасный, кровавый и практически безболезненный. Или удар по лошадям, уносящим возок с похищенной Лизой. Это была моя первая осознанная встреча с именем Елизавета, очень мне запомнившаяся, хотя так не звали ни одну близкую мне женщину. В дальнейшем я все время пытался найти какойнибудь словарь, где бы были рассказаны истории об этом имени, толковник и грамматику, наподобие тех старинных словников цветов, упоминаемых Буниным, где объясняется, что "Вересклед - твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница - сладостные воспоминания. Печальный гераний - меланхолия. Полынь - вечная горесть", но не нашел, хотя и узнал, что еврейское имя Елизавета означает "обещанная Богу" или "Бог есть совершенство". Наверное, все подобные книжки сожгли вместе с усадьбами, куда гусары увозили своих Елизавет и где потом хранились "Грамматики любви". Впрочем, в любой русской памяти есть образ карамзинской Бедной Лизы, возникающий у белых монастырских стен, когда "внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом". Великолепная картина, очень знакомая, хотя она столь же идеальна, как сталинская мечта, воплотившаяся в роскошной жути ВДНХ и Речного вокзала. Москва, как пишет Карамзин, "сия ужасная громада домов и церквей", так и осталась алчной, давно поглотившей и упоминаемые в "Бедной Лизе" Симонов и Данилов монастыри, и село Коломенское с "высоким дворцом своим". Пожалуй, Лиза - первая русская душа, ставшая жертвой большого мира: замечательное противопоставление громады города и хрупкой индивидуальности, затем развитое в "Медном всаднике".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: