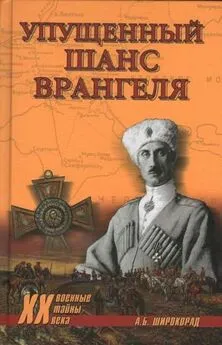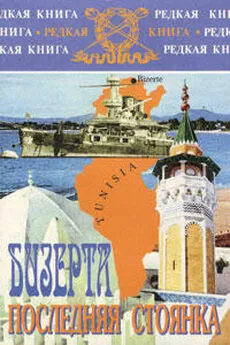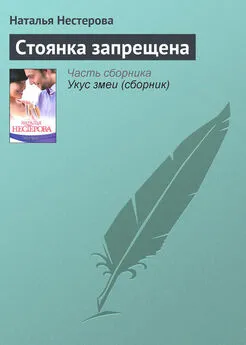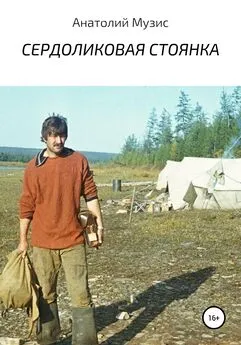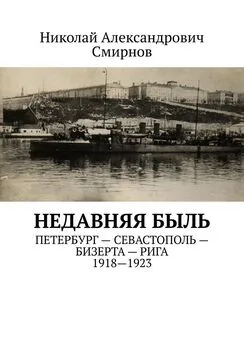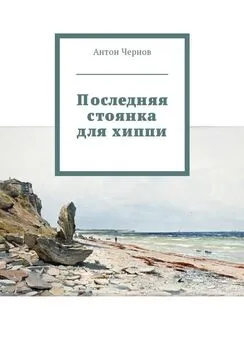А.а. Ширинская - Бизерта. Последняя стоянка.
- Название:Бизерта. Последняя стоянка.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А.а. Ширинская - Бизерта. Последняя стоянка. краткое содержание
Бизерта. Последняя стоянка. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Александр, Иосиф и Николай чудом выжили в ужасной эпидемии скарлатины 1907 года, которая за одну неделю унесла трех их братьев и сестренку Киру, единственную девочку из семи детей моей бабушки. Когда мама познакомилась с семьей, траур был еще свеж.
Мама на всю жизнь сохранила глубокое уважение к силе характера своей свекрови, несмотря на то что не всегда их взаимоотношения носили тот теплый оттенок соучастия, который как-то сразу установился у мамы с бабой Муней и Тоткой.
Еще один человек в семье пользовался всеобщим уважением: Анна Георгиевна, Ага-го для детей. Я поздно и в общем-то мало узнала о ее судьбе. История несчастной любви - она была изгнана из родительского дома и обрела семейное тепло рядом с моей бабушкой.
Глава V РАННЕЕ ДЕТСТВО
В 1911 году мой отец был назначен в Балтийский флот. Кронштадт - первый город, который я узнала: морской пейзаж, острова, контуры крепостей в тумане.
Санкт- Петербург защищен Кронштадтской крепостью. Петр Великий с удивительной проницательностью оценил стратегическое положение острова Котлин в 25 верстах на запад от столицы.
Начав там возведение крепостных сооружений в 1704 году, он оставил завет: «Содержать сию цитадель с Божией помощью, аще случится, хоть до последнего человека».
Завет Петра был свято выполнен - укрепления, протянувшиеся на северном и южном побережье континента, были неприступны. Петр предвидел то, что было подтверждено сто лет спустя другим замечательным флотоводцем адмиралом Нельсоном: «Флот, атакующий крепость, совершает безумие».
Я провела в Кронштадте первые два года жизни, и единственное, что мне напоминает об этом, - несколько фотографий младенца с серьезными глазами: иногда одна, иногда с мамой, одетой по моде тех лет - в тесном костюме с крупными пуговицами, в длинной юбке, жабо с кружевом и в непременной шляпе. Все фотографии сделаны у одного и того же фотографа: «КВАР. Николаевский проспект, дом Турина, 25 (напротив церкви)».
С какого возраста начинаем мы запоминать отдельные картины? Наверное, это зависит от самого ребенка. Я знаю, что мне не было еще и двух лет, когда я пережила страшные минуты безысходного отчаяния. Вероятно, мы только что приехали в Кронштадт и устроились у друзей моих родителей, Змигродских.
Не знаю почему, но мы, дети, были одни в большой гостиной. Зоя и Толя Змигродские были гораздо старше меня и сообща пытались меня напугать.
«За большим окном темная зимняя ночь; лишь белые шапки снега на заледенелых ветвях деревьев, и по пустынной улице, - шептали они, - большой медведь уже идет, чтобы тебя схватить!»
Я пыталась бежать через дверь, но Зоя и Толя появлялись из-за портьеры и, держась за руки, преграждали мне путь. Отчаяние бессилия и одиночества!
Это мое единственное личное воспоминание о Кронштадте.
Я даже не помню нашу собаку Мишку, хотя много о ней слышала.
Мы, должно быть, жили недалеко от дома адмирала Вирена, военного губернатора Кронштадта, так как Мишка приобрел привычку лазить в сад адмирала и портить аккуратные грядки цветов.
- Поймать этого мерзавца! - кричал в гневе адмирал. Матросы бегали, суетились, делая вид, что ловят, зная наперед, что Мишка вовремя улизнет, к их большой радости.
Лишь мама всегда чувствовала себя неловко перед любезной Надеждой Францевной Вирен - адмиральша дорожила своим садом.
Об этих годах в Кронштадте родители сохранили веселые воспоминания.
В 1914 году мой отец был переведен в Ревель; 1 августа он принял командование «Невкой» - посыльным судном службы связи между Ревелем и Гельсингфорсом.
Ревель - Таллин в настоящее время - средневековый городок, старинный торговый порт с XIII века, живописный, оживленный, навсегда связан для меня с первыми сознательными годами моего счастливого детства.
Мы жили в небольшом особняке, закругленное, как мне казалось, во всю стену окно которого выходило на широкую набережную - излюбленное место прогулок у самого моря, недалеко от памятника «Русалке»*.
* «Русалка» - русский броненосец
Как ни удивительно, но годы войны были для меня, маленького ребенка, безмятежно мирными.
Надо сказать, что мои родители не имели личного состояния и жили на скромный доход молодого офицера. Потом я узнала из папиного «послужного списка», что он получал 920 рублей в год и в графе «недвижимое имущество» стояло - «не имеет».
Тем не менее это было единственное время нашего семейного существования, когда материальные трудности не были постоянной заботой для мамы.
Встречи с друзьями, театр, лыжные или велосипедные прогулки, купальные сезоны в Гапселе (Хаапсалу). Жизнь была очень оживленной. У папы был мотоциклет с коляской, и он иногда катал меня с мамой.
Конечно, я не могла в то время отдавать себе отчет в опасности, которой подвергался папа, постоянно находясь в море; угроза нападения германского флота, минные поля, зимние штормы Балтики - все это мало что для меня означало. И тем не менее война 1914 года была «моя война»…
В очень дружной морской среде я пережила ее с чувствительностью маленького ребенка, который воспринимает события через отношения своих родителей. Эта среда навсегда останется для меня родной; впоследствии мы вместе пережили самые тяжелые дни Русского Императорского флота, его гибель, оскорбление Андреевского стяга.
Естественно, за мою долгую жизнь я много слышала и немало прочла об этих далеких годах, и трудно мне сказать, когда и как запечатлелись картины в моей памяти. Важно, что они еще живут.
Как забыть слова командира немецкого крейсера «Магдебург», 26 августа 1914 года выброшенного штормом на камни в 50 милях от Ревеля! Взятый в плен, командир, старший лейтенант Ричард Хабенихт, благодаря русских офицеров за достойный прием, высказал пожелание, чтобы и они «были встречены с такой же вежливостью и пониманием, если когда-нибудь окажутся в подобном положении».
Многим припомнились эти слова, когда русскому флоту пришлось терпеть унижения от своих же союзников. Особенно горько припомнилось это тем, кто уже в первые месяцы войны потерял родных и товарищей.
В октябре 1914 года немецкой подводной лодкой «И-26» был взорван крейсер «Паллада». Он затонул в три минуты - никого не смог подобрать экипаж находившегося неподалеку «Баяна» - ни раненых, ни погибших.
19 августа 1915 года две канонерки - «Сивуч» и «Кореец», направляясь в Моонзунд, наткнулись в тумане на основные германские силы. Командир Сивуча» Черкасов, старший по званию, понимая, что спасти оба судна не удастся, дал сигнал «Корейцу» «идти по способности в Моонзунд», а сам, развернув свой «Сивуч» лицом к врагу, принял на себя всю силу огня, позволив тем самым своему товарищу скрыться в тумане. Так, открыв огонь по головному дредноуту противника, маленький «Сивуч» пошел на смерть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: