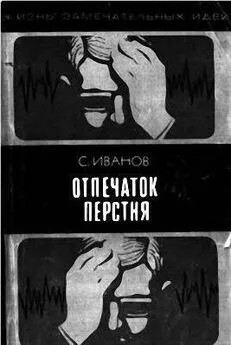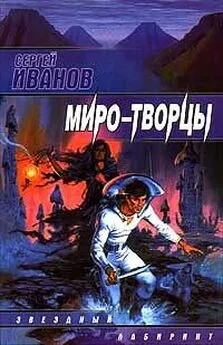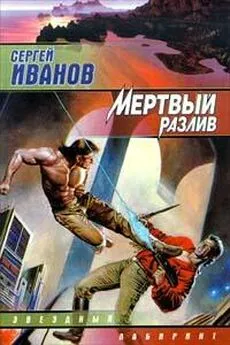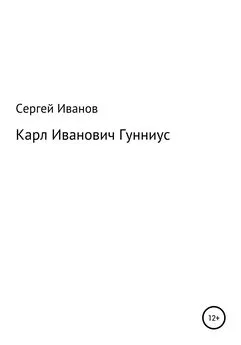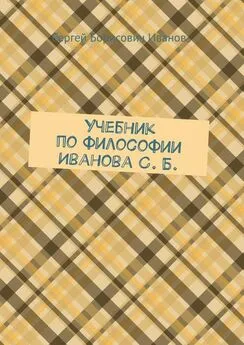Сергей Иванов - Отпечаток перстня
- Название:Отпечаток перстня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - Отпечаток перстня краткое содержание
Отпечаток перстня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отчего же мы забываем? И зачем?
На второй вопрос отцы психологии устами Рибо отвечали решительно и единодушно. Забывание это бесценный дар. Благодаря ему мы расчищаем место для новых впечатлений и даем памяти, освобожденной от груза ненужных деталей, полную возможность служить нашему мышлению. Лишись мы этого волшебного дара, мы бы очутились в положении бедняги Ш. и, чего доброго, вслед за забыванием лишились бы еще и рассудка. На первый же вопрос существует много ответов, и они вовсе не противоречат друг другу, а друг друга дополняют: у забывания много причин. Первый ответ самый простой. Возьмем все условия хорошего запоминания, подставим к ним отрицательный знак, и ответ получится сам собой.
В конце 20-х годов забывание изучал немецкий психолог Курт Левин. Вместе со своей сотрудницей Б. В. Зейгарник, ныне профессором Московского университета, они доказали, что прерванные действия сохраняются в памяти прочнее, чем законченные. Левин объяснял это тем, что незавершенное действие оставляет у нас подсознательное напряжение, и сосредоточиться на другом нам трудно. Добавим от себя, что часто это другое даже проскальзывает мимо нашего сознания. Представьте себе, что вы идете с приятелем по улице, и вам надо опустить письмо. Вы высматриваете на домах почтовые ящики, письмо не выходит у вас из головы, и все, что ни говорит вам приятель, проходит у вас мимо ушей. Вот и ящик, вы опускаете письмо, действие закончено, напряжение спадает, вы мгновенно забываете о письме и обращаетесь к приятелю с вопросом: «Так о чем ты говорил?» Но действия бывают разные. Простая монотонная работа, вроде вязания, говорит Левин, не может быть прервана – она может быть только остановлена. В ней участвуют одни руки, память дремлет, и остановка не вызывает никакого напряжения. Вот если от вас потребуют связать свитер к определенному сроку, то, прервав работу, вы о ней уже не забудете. Память качнет сопоставлять оставшийся рукав и оставшееся время. Еще один, более тонкий случай разбирает Дж. Миллер вместе с К. Прибрамом и Е. Галантером в своей книге «Планы и структура поведения». Человек пишет письма пяти адресатам, и его прерывают в середине работы. Будет ли разница в напряжении, если работа прервалась между двумя письмами и если в середине письма? Очевидно, будет. В первом случае помнить почти нечего, у каждого письма своя «система напряжения», и человек может даже забыть, что он не дописал писем; во втором разрывается сама «система», и человек стремится вернуться к незавершенному занятию.
И лучше бы он в инстинктивном стремлении освободиться от напряжения не обращался бы к «внешней памяти» – не записывал свою прерванную мысль на бумажке, даже если она будет лежать на видном месте. Он будет глядеть на бумажку и не понимать, что за чепуха там написана. Он уподобится гоголевскому герою, про чей узелок А. Н. Леонтьев сказал, что в нем сосредоточилось все ушедшее из памяти напряжение, отчего он и остался неузнанным. Нет ничего коварнее внешней, памяти, выражающейся в искусственно создаваемых ассоциациях по смежности: психическая разрядка часто оказывается сильнее их. К разрядке добавляется переход к выполнению новых планов, оперативная память обновляется без остатка, и то, что исчерпано, утратило актуальность, подвергается забвению. Эту, закономерность за сто лет до гештальт-психологии сформулировал Фамусов: «Подписано, так с плеч долой».
Случай с почтовым ящиком можно рассматривать как проявление проактивного торможения. Многие годы этот феномен, так же как и интерференцию, считали закономерностью, проявляющуюся у всех людей одинаково. Но в последнее время, после исследования типов нервной системы, проведенных Б. М. Тепловым и В. Д. Небылицыным, торможение стали рассматривать дифференцированно. Так, например, сотрудники Харьковского университета С. П. Бочарова и А. Н. Лактионов обнаружили, что при определенных обстоятельствах люди, обладающие так называемым инертным типом, более чувствительны к проактивному торможению, вызываемому частой стимуляцией, чем люди с лабильной, то есть гибкой, нервной системой. Быстрая смена процессов возбуждения и торможения облегчает лабильным переход от одного стимула к другому. В опытах же московского психолога Э. А. Голубевой была установлена связь между типами нервной системы, с одной стороны, и характером материала и типом запоминания – с другой. Лабильные быстрее осваивают осмысленный материал и медленнее бессмысленный, в непроизвольном запоминании они сильнее инертных. Зато если дается много бессмысленного материала, инертные воспроизводят его несравнимо лучше лабильных: последние иногда отличаются, у них не хватает терпения. Одним словом, свойства памяти зависят не только от всевозможных количественных «параметров», но и от особенностей личности, от сочетания характера, типа нервной системы, склада ума. Классифицировать такие сочетания очень Трудно, предсказать, что именно запомнят, а что забудут люди с одинаковой предварительной информированностью иногда невозможно. Пример склада ума на восприимчивость к новому приводит Эшби. Он пишет, что Ньютон всегда представлял себе любые явления как бы непрерывно протекающими в чем-то другом, и естественно, что именно он открыл дифференциальное исчисление, основанное на принципах непрерывности. В начале же XX века физика буквально требовала человека, способного представлять себе все явления в виде прерывистых порций – квантов. Таким человеком явился Макс Планк, заложивший основы квантовой теории. Имей Ньютон несчастье родиться около 1900 г., он не был бы Ньютоном, он даже мог бы и не понять квантовой теории, что и случилось со многими современниками Планка. Гейне, который преклонялся перед Наполеоном за его способность к широчайшему интуитивному охвату событий, находит в его складе ума непростительный и роковой изъян: «Наполеон обладал проницательностью для понимания настоящего или оценки прошедшего и был совершенно слеп, когда дело шло о каком-нибудь явлении, в котором возвещало себя будущее. Он стоял на балконе своего замка в Сен-Клу, когда мимо этого места плыл по Сене первый пароход, – и ни на волос не понял преобразовательного мирового значения этого феномена». Тут можно сказать, что Наполеон, уподобившийся аборигенами Фиджи, не только не заметил парохода, не придав ему никакого значения, но и просто-напросто забыл о нем! Забывание и восприимчивость связаны самыми тесными узами.
Физиологи и неврологи различают два вида поступающей в мозг информации. Один поток содержит в себе так называемую специфическую информацию-сведения об объективных, «физических» свойствах раздражителей, а другой – о субъективных, биологических свойствах, имеющих значение для личности в данной ситуации. Первый поток идет в основном в те зоны коры, где происходит обработка сигналов по их чувственным признакам; вторым завладевают эмоционально-оценочные центры, которым безразлична физическая характеристика стимула: им важно установить его значение. В одних случаях человеку требуется точный анализ всех внешних обстоятельств, независимо от их субъективной важности, в других, наоборот, анализ будет служить только помехой для энергичных действий или для понимания происходящего. Когда хирург делает операцию под артиллерийским обстрелом, он не анализирует перелеты и недолеты: либо анализ, либо операция. Хирург не слышит обстрела и как бы забывает о нем. Для него существует только та часть специфической информации, которая необходима для решения задачи. Центральная нервная система, с ее способностью к целенаправленному торможению и возбуждению, сосредоточивает его внимание на самом главном. Обо всем этом, как обычно, были прекрасно осведомлены классики. Вспомним уже знакомую нам сцену: «Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спускал с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая». Пьеру здесь нет дела до содержания рассказа Наташи. Он воспринимает только его эмоциональную сторону. Совсем иначе ведет себя Каренин, затворивший свое сердце для Анны: «Ему было слишком страшно понять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье… Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах; но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: