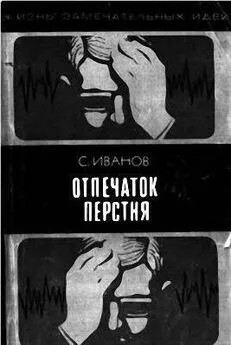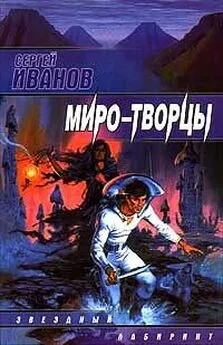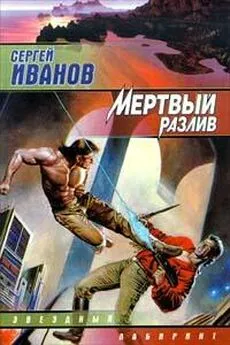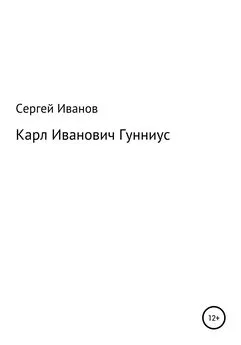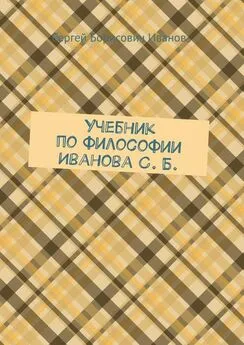Сергей Иванов - Отпечаток перстня
- Название:Отпечаток перстня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Иванов - Отпечаток перстня краткое содержание
Отпечаток перстня - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, следы, связанные с сенсорным различением – с работой органов чувств, образной памяти и мышления, хранятся в коре, во втором блоке; причем мозолистое тело обеспечивает запись следов сразу в двух полушариях. Но в одной ли коре хранятся они? Одной обезьяне с раздвоенным мозгом предложили научиться сложной комбинации из зрительного и осязательного различения. При виде круга она должна была потянуть на себя гладкий рычаг, а при виде квадрата – шероховатый. Обычно обезьяны решают такие задачи легко. Но Сперри потребовал от нее, чтобы она тянула за рычаг не той рукой, которая управлялась полушарием, получавшим зрительные сигналы, а другой, управлявшейся полушарием, отрезанным от зрительных каналов. И обезьяна решила эту задачу. Очевидно, результаты осязательного и зрительного распознавания сопоставлялись в подкорковых отделах, и там же принималось решение, на какой рычаг нажимать. Решение это результат работы не одной толь- ко коры. Но самое главное даже не в этом. Кроме следов, необходимых для различения, память хранит и массу следов другого типа, из которых складывается опыт. Где хранятся они? Как они интегрируются в единое воспоминание, обладающее той же временной последовательностью, которая была свойственна запомнившемуся событию? Да, второй блок называют блоком хранения, но лишь потому, что лучшего слова не нашлось. Есть в слове «хранение» оттенок статичности, как и в слове «след» и в слове «отпечаток». Аристотель думал, что память локализуется в сердце, Декарт помещал ее в шишковидную железу. Остальные мыслители, начиная с Парменида и Гиппократа, придерживались более современных взглядов. Но каковы же эти взгляды? Одни физиологи признают второй блок хранилищем памяти, другие говорят об иерархии уровней хранения: деталями ведает кора, а значение, придаваемое этим деталям, хранится в структурах первого блока. Но как может «храниться» значение? Что касается неврологов, то, говоря о процессах сравнения с эталонами, они и вовсе избегают слова «хранение». Так что же, сравниваемые образы возникают только в процессе сравнения? А как быть с теми же пенфилдовскими фильмами, с гипермнезиями? Не распутает ли клубок этих противоречий анализ корсаковского синдрома, который считается истинным, или первичным, нарушением?
КОРСАКОВСКИЙ СИНДРОМ
Кроме божьего дара, или, по-научному, интуиции, кроме обширных познаний и выдающегося профессионального мастерства, великий врач отличается от врача обыкновенного пристальным интересом к личности больного, ко всей его жизни, которую он стремится пронаблюдать во всех подробностях и описать так, чтобы ни одна из этих подробностей не ускользнула от анализа. Во время этих наблюдений и описаний рождаются счастливые мысли и совершаются великие открытия; история болезни, которой врач обыкновенный посвящает страничку, превращается у великого врача в философский роман, где потомки, независимо от своих прямых интересов, не устают находить все новые и новые крупицы мудрости. Таким врачом был Сергей Сергеевич Корсаков.
Более всего Корсакова занимали амнезии. Предоставив своим французским коллегам изучение сомнамбул и жертв шока, Корсаков занялся жертвами зеленого змия. Одним из первых в его руки попал тридцатисемилетний писатель, привыкший много пить и доведший себя до состояния, в котором память его, слабевшая день ото дня, отказалась ему служить. Он не мог ответить, ел он сегодня или нет, был у него кто-нибудь сегодня или не был. Все, что случалось с ним задолго до болезненного состояния, он знал, но то, что приближалось к этому состоянию, потускнело. Он начал писать повесть и помнил об этом, но чем она должна была кончиться, забыл. У писателя началась непрерывная амнезия. Писателя спасти не удалось, у него развился паралич конечностей, и он умер. Многие такие больные страдали параличом конечностей, и Корсаков, предположив, что имеет дело с болезнью всей нервной системы, назвал ее множественным невритом. Впоследствии, на Международном съезде врачей, ее назвали корсаковским психозом – в честь ее первооткрывателя. А еще позже корсаковский психоз стали считать частным случаем корсаковского синдрома – целого комплекса симптомов, встречающихся и у тех, чей мозг отравился алкоголем или другими ядовитыми веществами, например продуктами нарушенного обмена, и у тех, у кого в мозгу произошло кровоизлияние или развилась опухоль, вызвавшие те же последствия, а именно – непрерывную амнезию. Утрата памяти на происходящее – первое, что бросается в глаза при корсаковском индроме, и ни фенамин, ни элениум ничего с ней поделать не могут.
Корсаков часто играл со своими больными в шахматы, и, бывало, больные обыгрывали его. Что-что, а оперативная память у них была в отличном состоянии: видя перед собой доску с фигурами, они удерживали в памяти и их расположение, и свои собственные замыслы, и предполагаемые ходы противника. Но стоило больному отвернуться от доски, как он тут же забывал не только расположение фигур, но и то, что он вообще играл. Впрочем, это его не обескураживало: он садился, приглядывался к партии и продолжал ее как ни в чем не бывало. И все-таки эта способность к комбинационному мышлению, пожалуй, не более, чем сохранившийся в неприкосновенности навык. Ни одному больному не удается научиться игре, в которую он прежде играть не умел. Читать больные не любят, круг их интересов ничтожен: «поесть, попить, поспать, покурить». Нет, они вовсе не так уж отличаются от тех, у кого поражены лобные доли. «Одно и то же впечатление у него вызывает стереотипную фразу, которая произносится таким тоном, точно больной только что эту фразу придумал»,- пишет Корсаков о писателе. Охотнее всего они употребляют поговорки, избитые словосочетания; даже из старого опыта, который остался у них, они образуют только рутинные комбинации. И такая же прилипчивость к внешним воздействиям, с той только разницей, что больной с пораженными лобными долями как бы раскрыт навстречу наружным импульсам, даже ищет их, а пациент Корсакова пассивен, но «начнут с ним говорить – он начинает говорить; увидит вещь – сделает свое замечание:». Он тоже живет как бы в одном растянутом настоящем, и его личность претерпевает такие же серьезные изменения. Он то раздражителен и упрям, то покорен и вял. И в том, и в другом случае ясно видно, как тесно связана память с мышлением и характером; искажается одно, искажается и все остальное, вся личность претерпевает деформацию. Ярчайшим примером такой деформации, или даже распада личности служит история с адвокатом, столь же знаменитая, как история госпожи Д. или Берна Брауна.
Начало истории банально: пристрастие к водке, паралич ног, потом, правда, прошедший, и такое же, как всех, расстройство памяти. Его выписывают из больницы, но к адвокатской практике он решительно не способен. О водке давно забыто, но память не восстанавливается, бывший адвокат работает корректором. Чтобы не читать все время одну строчку, он делает против про читанной отметку карандашом и медленно двигается о одной строчки к другой. Газету, где он служит, закрывают, для него наступают тяжелые времена, о которых он, впрочем, мало что помнит. Года через четыре он все-таки пытается устроиться адвокатом. Но на какие ухищрения ему приходится пускаться, чтобы никто не заметил его слабости! Чтобы не попасть в неловкое положение в суде, он должен читать свою речь по конспекту и избегать подробностей, отделываясь общими местами. Все силы уходят на то, чтобы ставить себя в условия, благоприятные для воспоминания – окружать себя предметами, которые могут напомнить о том-то и о том-то. Если он встречается с приятелями, с которыми виделся вчера, и они вызывают его на незаконченный разговор, он ловко препоручает им ведение разговора. Благодаря всем этим хитростям он становится общительнее и перестает избегать встреч с людьми. Но прежней личности нет и в помине. «Прежде он был горячий, энергичный человек, возмущавшийся горячо несправедливостями,- пишет Корсаков,- теперь… в нем какое-то особенное хладнокровие, но не вследствие силы, не вследствие особенной высоты миросозерцания, а вследствие слабости жизненных порывов». Какая уж там высота миросозерцания! Много раз Корсаков просил адвоката описать свое состояние, тот все отнекивался, но, наконец, уступил, и вот какое письмо получил Корсаков: «Очевидно, стало быть, я на каком-то перепутье или, вернее, в столбняке со стихом: сердце пусто, празден ум… притом же решительно затрудняюсь, что выбрать для (начинки?) заселения этих необходимых для жизни территорий (разумея ум и сердце без сказуемых). Искренне желаю, чтоб трагедия и водевиль отсутствовали, а был бы лишь простой, но величавый эпос. Это я постараюсь положить в основу новой жизни, не определяя заранее ни того, что она (жизнь) сама в себе, ни того, что именно пригоднее для нее… Таким образом, для меня вовсе не представляется странным, если в данное время жизни я признаю себя лишь формой для личности, но не совсем личностью…дальше адвокат признает, что сейчас он не более как посредственность, он не теряет надежды на исцеление «мне, уже достаточно искусившемуся, продолжение рисуется более лучшим»), но попытки анализа своего состояния тонут в поверхностном резонерстве, в безграмотной выспренности, в стилистической беспомощности, которая всегда спешит замаскироваться псевдозначительным оборотом, заключенным в скобках. Прочитав длинное и тягостное письмо адвоката, Корсаков сказал кратко и недвусмысленно: «Снижение умственных способностей». Адвокат пишет, что волнуют его теперь не серьезные происшествия, а «события крупного ничтожества». Мало проку в том, что он не утратил способности это сознавать – надо ведь действовать, надо всей душой болеть за справедливость и откликаться на ее попирание так, как откликались лучшие из его коллег, чьи речи в защиту народовольцев потрясали основы самодержавия. Но изъязвленный алкоголем мозг откликается только на ничтожные заботы. Самодержцы знали это еще со времен Владимира Красное Солнышко, любившего потолковать о том, что веселие Руси есть пити. Но ведь не пьет больше адвокат, сама мысль о водке противна ему, отчего же не восстанавливается его память и не возвращается прежняя личность? Может быть, яд разрушил какой-то важный орган в мозгу, от которого это все и зависит, некий первичный отдел памяти?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: