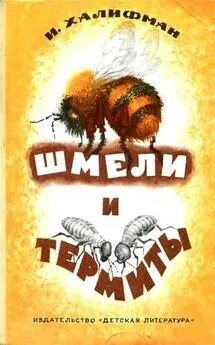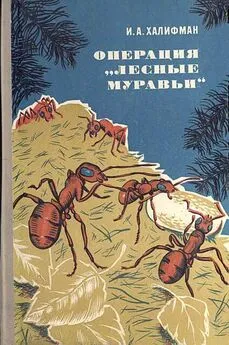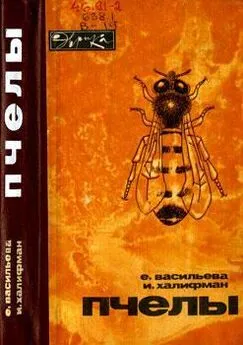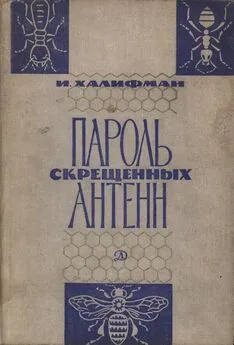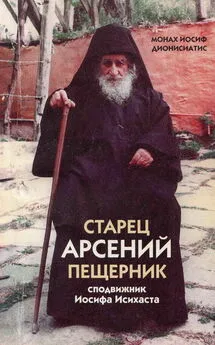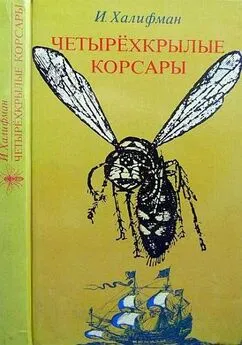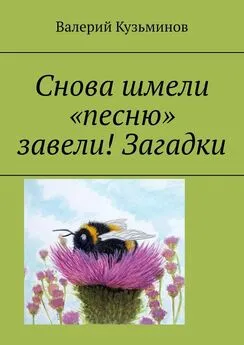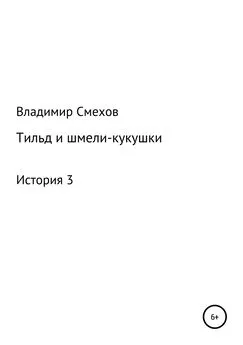Иосиф Халифман - Шмели и термиты
- Название:Шмели и термиты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Халифман - Шмели и термиты краткое содержание
В это издание включены две повести. Они вводят читателя в диковинные миры шмелиных гнезд и термитников, знакомят с историей изучения обитающих здесь интереснейших насекомых, рассказывают о людях, посвятивших жизнь их исследованию, учат наблюдать и понимать природу и показывают увлекательность научного поиска.
Шмели и термиты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Закончим эту главу выписками из дневника наблюдений за одним из искусственных гнезд каменного шмеля — Бомбус лапидариус.
« Середина августа : шмели стали неохотно, вяло брать мед из кормушек, которые для них по-прежнему выставляют на обычном месте возле гнезда.
Начало сентября : шмели все еще реагируют на стук о стенку улья, высыпают на поверхность сота, встревоженно гудят.
Вторая декада сентября : восковой навес, укрывавший гнездо, обрушился; шмели не восстанавливают его.
Конец сентября : многие шмели продолжают выделять воск, кое-где ремонтируют соты, но мед больше не складывают, медовые чаши пустеют.
Начало октября : на кормушках вне гнезда никого, ни один шмель больше не посещает их; новая кормушка с медом поставлена в гнездо.
Середина октября : гнездовая кормушка полна меда, но шмели больше не подходят к ней. Похоже, они утратили чувство голода».
Основанная с весны шмелихой община, в которой воспитаны десятки, а то и сотни молодых шмелих, доживает последние часы. Жизнь, затеплившаяся вокруг основательницы и так бурлившая летом, сейчас уходит, будто перелившись в молодых, недавно совершивших брачный полет шмелих. Каждая представляет теперь полный сил зародыш будущей новой общины, в которой — придет час — новые трубачи проиграют сбор.
Сон в зимнюю ночь
Сюда, сюда! Здесь превосходное местечко!
В. Шекспир. Сон в летнюю ночь
Зимовка тут есть недалеко…
Рассвета дождемся мы в ней!
Н. Некрасов, Русские женщины
 КОНЦЕ минувшего века широкую известность приобрели работы Порфирия Ивановича Бахметьева. Это был человек незаурядной судьбы. Сын русского крестьянина, он стал одним из основателей Софийского университета в Болгарии. Проницательный натуралист и смелый исследователь, Бахметьев сумел проложить новые пути на разных участках науки.
КОНЦЕ минувшего века широкую известность приобрели работы Порфирия Ивановича Бахметьева. Это был человек незаурядной судьбы. Сын русского крестьянина, он стал одним из основателей Софийского университета в Болгарии. Проницательный натуралист и смелый исследователь, Бахметьев сумел проложить новые пути на разных участках науки.
Мы немного уже избалованы достижениями дружбы наук, их сотрудничества, их объединенных усилий в исследованиях, их быстрого роста на стыках разных дисциплин. Труды Бахметьева — физика, математика и биолога одновременно — многими идеями и фактами обогатили, в частности, один из таких стыков — биофизику, лишь в наши дни сложившуюся как самостоятельная наука.
Но и сейчас диву даешься, как умещались в голове одного человека мысли о телевидении, скажем, и об анабиозе…
Впрочем, если вдуматься… Бахметьевым разработана первая в мире схема для беспроволочной передачи и приема изображения на расстоянии (эта схема на многие десятилетия предвосхитила основы современного телевидения, того, что позволило людям получать снимки поверхности не видимой с Земли стороны Луны). Бахметьев же исследовал состояния живого при не существующих в естественных условиях на Земле низких температурах. И там и здесь живет, в сущности, одно и то же стремление: проникнуть взглядом и мыслью в запредельные высоты и глубины, приблизить недоступное, проложить новые пути в незнаемое.
Работы Бахметьева в области анабиоза взволновали когда-то не только биологов:
«Русский профессор возвращает к жизни неживое…»
«Сказочнее сказки о Снегурочке…»
«Победа над ледяной смертью…»
Однако крикливые заголовки газетных статей не искажали сути дела.
Бахметьев и его ассистенты подвергали гусениц нескольких бабочек действию все более и более пониженных температур, пока гусеницы не промораживались насквозь. Они, как писал Бахметьев, витрифицировались , становились словно стеклянными. И это была не только одна видимость. Когда такую витрифицированную гусеницу бросали на пол, она со звоном разбивалась, рассыпаясь мелкими осколками, а острые углы изломов наглядно говорили, что гусеница превратилась в стеклоподобное физическое тело, подчиняющееся законам мертвой материи.
И вот таких-то гусениц, превращенных в нечто, казалось полностью переставшее быть живым, Бахметьев отогревал. И все могли видеть, как в мертвую сосульку постепенно возвращалась жизнь, как гусеница просыпалась, начинала шевелиться, передвигаться, потом принималась глодать зелень и вновь обретала способность извергать из пищеварительного канала отбросы усвоенной пищи. Тут уж никаких сомнений не оставалось: гусеница, которая недавно была ледышкой, жила!
Вот это-то превращение живого в неживое и опять в живое, вот эта-то способность живого замирать и воскресать имеет прямое отношение к зимнему сну шмелих.
Спящего шмеля можно наблюдать и летом, под стеклянным потолком искусственного гнезда. Среди хлопочущих, занятых делом рабочих почти всегда — и даже не обязательно ночью — то в одном уголке, то в другом удается заметить насекомое, замершее почти неподвижно. Лишь изредка — гораздо реже, чем у бодрствующего, — растягивается и сжимается у него при дыхании брюшко да чуть заметно подрагивают усики-антенны… Немного отдохнув, шмель снова окунется в жизнь общины.
Зимний сон шмелихи отнюдь не мимолетен. Даже в средних широтах шмелиная зима длится очень долго, много дольше, чем самая долгая на земле полярная ночь.
Послушные законам своего племени, молодые шмелихи праторум уже в июле принимаются искать зимовальную норку, в которой им надлежит провести чуть не восемь месяцев подряд.
За праторум следуют лукорум, потом агрорум, мускорум, лапидариус… Одни находят убежище на зиму сразу, другие продолжают летать даже в сентябре. Но в конце концов шмелихи одного вида за другим раньше или позже исчезают. Все реже удается видеть их характерный поисковый, низкий, почти бреющий полет. Насекомые то и дело задерживаются на мгновение, повисая в воздухе, падают на землю, сразу взвиваются, переносятся от одного места к другому. Шмелихи замечают самые незначительные, даже десятиградусные уклоны холмиков и подолгу летают над ними, не спеша обследуя каждое углубление.
Когда шмелихе, начавшей зарываться, попадается в грунте тонкий белесый корень травинки, она его тотчас перекусывает, а если не в силах одолеть, то перестает рыть норку и улетает в поисках нового участка.
То же происходит, когда, прокладывая ход в глубь почвы, шмелиха наталкивается на камень. Казалось, чего проще: обойти его и продолжить шахту до нужной глубины? Нет, так шмелихи не умеют.
Да им и неизвестно, что попалось на пути: маленький обломок кирпича или какая-нибудь гранитная глыба. Обследовать препятствие? Под землей? Никаких специальных органов у них для этого нет. Шмелиха просто бросает начатый ход и, выбравшись на поверхность, продолжает поиск.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: