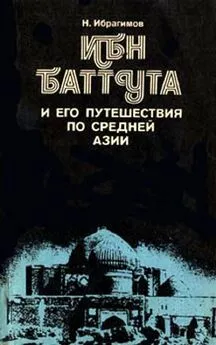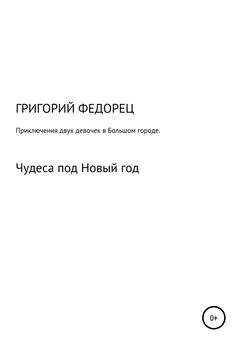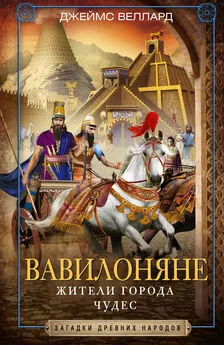Ибн Баттута - Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий
- Название:Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ибн Баттута - Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий краткое содержание
Абу Абдаллах Мухаммед ибн Абдаллах ибн Баттута ал-Лавати ат-Танджи по праву считается величайшим путешественником мусульманского средневековья. За почти 30 лет странствий, с 1325 по 1354 г., он посетил практически все страны ислама, побывал в Золотой Орде, Индии и Китае. Описание его путешествий служит одновременно и первоклассным историческим источником, и на редкость живым и непосредственным культурным памятником: эпохи.
Подарок наблюдающим диковинки городов и чудеса путешествий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другим широко распространенным явлением (также «язычеством» с точки зрения ортодоксального ислама) была вера в чудеса, совершенные живыми святыми, т. е. культ антрополатрии. Описывая виденныеим города, Ибн Баттута обязательно отмечает в них того или иного чудотворца, в деяния которых он, как и местные жители, глубоко верил (в Магрибе, откуда был родом Ибн Баттута, культ святых также был весьма распространен).
Авторитет святых, творивших «чудеса», исцелявших от болезней, предсказывавших будущее, был очень велик. Поклонялись им и монгольские ханы, и местные жители. Описывая взаимоотношения Узбек-хана и шейха Нуман ад-Дина ал-Хорезми, восхваляя независимость, благочестие, неподкупность шейха, Ибн Баттута не забывает отметить и его «священную способность» творить чудеса: «Меня он принял очень ласково — да воздаст ему Аллах за это добром — и прислал мне тюркского гуляма. Я лично был свидетелем его чудес».
Тут, как и в конце описания «достоинств» каждого города и его святого, Ибн Баттута приводит рассказ под названием «Чудо шейха», в котором, на взгляд современного человека, нет ничего чудесного. Подобныеже «чудеса» Ибн Баттута рассказывает о шейхе Hyp ад-Дине ал-Кермани, об «отшельнике» Абу Абдаллахе ал-Муршиди, о шейхе Шихаб ад-Дине, о шейхе Кутб ад-Дине ан-Найсабури и о многих других святых. Этими своими чертами «Путешествие» Ибн Баттуты перекликается с книгами «житийного» жанра, широко распространенными в то время.
Сообщение Ибн Баттуты об обычае наречения именем говорит о наличии у тюрков-мусульман древних пережитков тотемизма. Несмотря на то что в массе своей тюрки в это время получали арабо-мусульманские имена (Мухаммад, Ибрахим, Фатима и т. д.), все же сохранился обычай давать детям имена по тому предмету или животному, которые роженица увидела первыми после родов. «Тюрки, — говорит Ибн Баттута, — называют родившегося ребенка по имени первого входящего в шатер при его рождении». И хотя этот обычай был главным образом распространен среди язычников, но и мусульмане не отказались от него полностью.
В другом месте Ибн Баттута рассказывает: «Имя дочери султана Узбека — Иткуджук (Иткучук). Имя это значит «собачка», потому что «ит» — собака, а «куджук» — щенок. Мы уже сказали выше, что тюрки получают имена по случаю, как это делалось когда-то у арабов».
Можно привести длинный ряд имен, данных «по случаю» и заменяющих мусульманские имена. Ибн Баттута сравнивает этот обычай с обычаем, существовавшим у арабов, где тотемические наименования были распространены главным образом в названии племен (калб — «собака», килаб — «собаки», кулайб — «собачка», асад — «лев», курайш — «акула» и т. д.).
Таким образом, можно констатировать, что «интерес к исламу», наблюдавшийся у Ибн Баттуты, характерен не только для него, но и для многих других авторов XIII–XIV вв., когда вопрос о вероисповедании, в частности о принятии или неприятии монгольскими государствами ислама, играл важную политико-экономическую роль.
Рассказы Ибн Баттуты об обилии суфийских завий в Средней Азии согласуются с сообщениями других источников и отражают жизненные реальности этого периода. Другую сторону этого явления представляют собой широкое распространение в различных областях культа святых и расцвет «житийной» (агиографической) литературы, складывающейся вокруг имен этих святых.
Большой интерес представляют также рассказы Ибн Баттуты о пережиточных культовых формах, встречающихся у народов Средней Азии, причем доказательством широты взглядов Ибн Баттуты служит его доброжелательный и объективный тон.
Таковы основные черты «Путешествия» Ибн Баттуты, рассказавшего о самом значительном, по его мнению, из того, что он видел.
Несколько слов о принципах перевода «Путешествия» Ибн Баттуты.
Перевод средневековых источников, написанных на арабском языке, имеет давнюю традицию, как в Западной Европе и в России, а позднее в Советском Союзе, так и в странах Ближнего и Среднего Востока (главным образом в Иране и Турции). В сущности, с перевода арабских исторических хроник и географических сочинений началось изучение истории науки восточного средневековья, а источники эти определили и уточнили археологические и нумизматические изыскания современных ученых-историков. Без данных таких авторов, как Табари, Ибн ал-Асир, ал-Мукаддаси, Ибн Хордадбех и др., многие важные находки археологов и нумизматов оказались бы истолкованными произвольно и неполно. Однако перевод средневековых произведений представляет значительные трудности. Сложнейшей стороной использования источников является точное понимание их текста. Ведь эти сочинения были написаны в эпоху, отделенную от нас несколькими столетиями, когда существовали иная система мер и весов, иные реалии, а слова и термины, знакомые нам по современному языку, часто имели иное содержание. Зачастую это приводит к модернизации источника в переводе, что крайне нежелательно.
Не менее опасна при переводе классического наследия другая крайность: архаизация текста. Переводчик, следующий за буквой оригинала, часто неоправданно «удревняет» источник. Возникают тяжелые обороты, чуждые как языку оригинала, так и современному русскому языку, устарелые конструкции.
Основой данного ниже перевода глав «Путешествия», касающихся Средней Азии, является принцип адекватности. Переводчик старался при возможно более полном сохранении структуры арабского текста отойти от «словарного» перевода, учитывая всю сложность малого контекста — предложения и ситуации, и общего контекста «Путешествия» как законченной стилистической структуры.
В «Путешествии» мы, безусловно, имеем дело с личной манерой рассказчика, в которой отразился весьма показательный и плодотворный для развития арабской прозы процесс создания «народной литературы», формировавшейся в ту эпоху.
Предлагаемый перевод выполнен по парижскому изданию арабского текста «Путешествия» Ибн Баттуты, сличенному с другими соответствующими публикациями.
Перевод глав «Путешествия» Ибн Баттуты, касающихся Средней Азии и некоторых сопредельных областей
[11] Текст воспроизведен по изданию: Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. М. Наука. 1988
Через десять дней после отъезда из Сара [12] Ас-Сара — так Ибн Баттута называет столицу Золотой Орды г. Сарай. Были два города, носившие это имя: Сарай-Бату, старая столица Золотой Орды, названная по имени хана Батыя (1227–1255), и Сарай-Берке, основанный братом Батыя Берке-ханом (1257–1287), куда была перенесена столица при Узбек-хане (1312–1340), очевидно еще до прибытия туда Ибн Баттуты. В исторической литературе эти города известны как Старый и Новый Сарай. Развалины Сарай-Берке (Нового Сарая) находятся вблизи нынешнего поселка Ленинск, Волгоградской области. Этот город был разрушен Тимуром в 1395
мы прибыли в город Сараджук, [13] Сараджук или Сараджик («Сарайчик») — Малый Сарай. Развалины этого средневекового города находятся в 1,5 км от современного поселка Сарайчика (в 58 км от г. Гурьева Каз. ССР). В XV–XVI вв. это был важный торговый центр, куда приезжали иностранные и русские Купцы, которые вели торговлю с народами Средней Азии.
джук значит «маленький». Они таким образом хотели выразить, что это Сара Малый. Город этот расположен на берегу полноводной, крупной реки, называемой Улусу, [14] Улусу — р. Урал.
значение чего «великая вода». Через нее переброшен мост из лодок, [15] Судя по описанию, это понтонный мост, но по стилистическим соображениям мы не употребляем этого слова. В Багдаде, например, было два больших понтонных моста — «Верхний» и «Нижний»). Одно из лучших и самых подробных описаний у Иакуби
такой же, как в Багдаде. В этом городе наше путешествие на лошадях, тянувших арбы, закончилось. Там мы продали их по четыре динара денег [16] Арбаату дананир дарахим. В. Г. Тизенгаузен переводит это сочетание «4 серебряных динара», однако возникают следующие соображения: вряд ли даже в разговорном языке может быть допущено употребление существительного дарахим в значении прилагательного «серебряный», тем более что по происхождению дирхем — слово не арабское, а заимствование из греческого языка (драхма). Зато во множественном числе дарахим получило широко распространенное обобщенное значение «деньги», употребляясь именно в арабском разговорном языке и в марокканском диалекте в первую очередь, входя в состав пословиц и поговорок (ад-дарахим — марахим — «деньги — лекарство от всех бед»). Здесь, как и во всех прочих многочисленных случаях его употребления, это выражение означает «четыре динара денег» или «четыре динара деньгами». Это утверждение подкрепляется тем фактом, что далее у Ибн Баттуты не раз встречаются слова миату динар дарахим («сто динаров деньгами»), где слово динар стоит в ед. ч., а слово дирхем во мн. ч. Отсутствие согласования в арабском языке в подобных случаях совершенно невозможно, тем более что слово динар — мужского рода.
за лошадь и меньше этого, ввиду их слабости и дешевизны в этом городе, и наняли верблюдов, чтобы тянуть арбы. В этом городе находится завия [17] Завии были широко распространены в XIV в. в СреднейАзии и Хорасанс. Судя по описаниям источников, завия представляла собой и дервишскую «обитель», и странноприимный дом, где бесплатно кормили проезжих, в особенности возвращавшихся из паломничества. Большая часть завий находилась там, где были мазары (т. е. места поклонения) — гробницы местных «святых».
праведного старца из тюрков, которого называют ата, что значит «отец». Он угостил нас в завии и благословил. Принимал нас также кади этого города, имени которого я уже не помню.
Интервал:
Закладка:
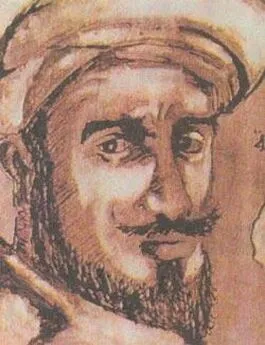


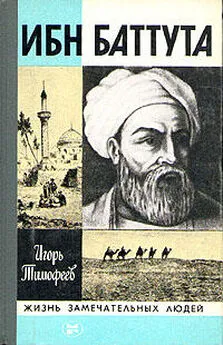
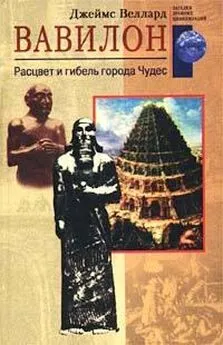
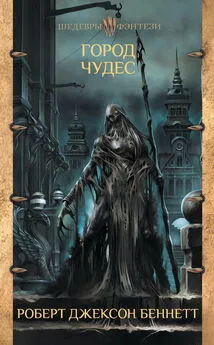
![Роберт Беннет - Город чудес [litres]](/books/1074589/robert-bennet-gorod-chudes-litres.webp)