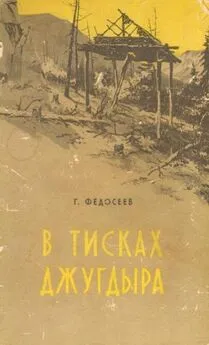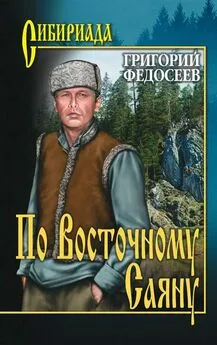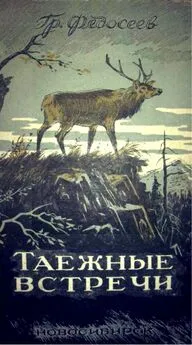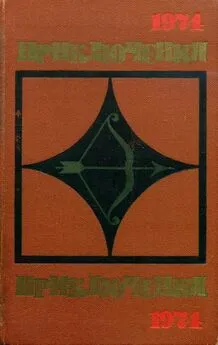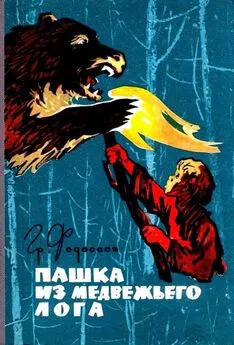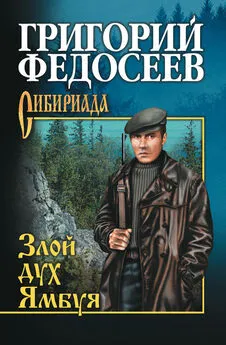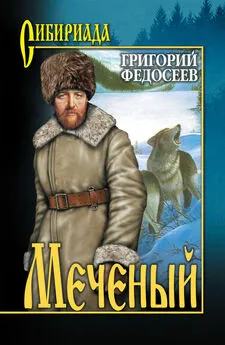Григорий Федосеев - В тисках Джугдыра
- Название:В тисках Джугдыра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1956
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Федосеев - В тисках Джугдыра краткое содержание
Григорий Анисимович Федосеев, инженер-геодезист, более двадцати пяти лет трудится над созданием карты нашей Родины.
Он проводил экспедиции в самых отдаленных и малоисследованных районах страны. Побывал в Хибинах, в Забайкалье, в Саянах, в Туве, на Ангаре, на побережье Охотского моря и во многих других местах.
О своих интересных путешествиях и отважных, смелых спутниках Г. Федосеев рассказал в книгах: «Таежные встречи» – сборник рассказов – и в повести «Мы идем по Восточному Саяну».
В новой книге «В тисках Джугдыра», в которой автор описывает необыкновенные приключения отряда геодезистов, проникших в район стыка трех хребтов – Джугдыра, Станового и Джугджура, читатель встретится с героями, знакомыми ему по повести «Мы идем по Восточному Саяну».
В тисках Джугдыра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Откуда ты узнал? Догадываешься?
– Эко не видишь, читай, тут хорошо написано, – и старик показал рукою на ближайшую лиственницу.
На ней мы увидели обыкновенный затес и воткнутую горизонтально ерниковую веточку с закрученным кольцом на конце.
– Ничего не понимаю, обычный затес. Ты шутишь, Улукиткан.
– Как шутишь? Поди, не слепой. – Старик с досадой схватил меня за руку, потащил к лиственнице. – Хорошо смотри, я рассказывать буду. Раньше эвенки совсем писать не умели. Когда ему надо было что-нибудь передать другому человеку, он делал метку на дереве. Метка разный был. Если хозяин чума или лабаза кочевал со становища надолго, то клал веточку прямо, куда ушел, а конец заворачивал назад кольцом, – это значит, обязательно вернется. Понял? Так сделал и каюр Лебедева. Если же эвенк кочевал на два-три дня, то кольцо веточки немного опустят вниз. Когда он – уходил на день, другом месте ночевать не будет – веточку клал без кольца, концом вниз. Теперь твоя понимай?
– Как не понять! Но откуда ты узнал, что они уехали сегодня?
– Все тут на веточке написано. Видишь, на ней ножом вырезано четыре острых зубца подряд и один тупой. Острый зубец – солнечный день, тупой – непогода. Значит, они кочевали после четырех подряд хороших дней на пятый, в непогоду. Теперь хорошо читай сам и скажи, когда ушли.
– Верно, уехал сегодня, – вмешался в разговор Василий Николаевич. – Солнечные дни начались с четвертого числа. Мы еще за перевалом были, продержались они четыре дня, а сегодня по счету пятый и первый день непогоды. Ты смотри, как просто и ясно! Грамотному человеку, пожалуй, и лиственницы не хватило бы все расписать, а у эвенка столько вместилось на веточке.
Лебедев обосновался на берегу Маи, в двух километрах выше устья левобережного притока Кунь-Маньё. Слева лагерь огибала отвесная стена рослого леса, а справа к нему прижался наносник из серых помятых стволов, принесенных сюда водою в половодье. Палатка, приземистая, как черепаха, сиротливо стояла под огромной лиственницей. Рядом на четырех ошкуренных [37]столбах возвышался лабаз, заваленный грузом и прикрытый брезентом. Ветер хлопал обгорелой штаниной, пугалом, подвешенным на кривой жердочке. Под лабазом висели туго набитые потки, ремни, посуда проводников, лежали ящики с гвоздями, цементом, круги веревок, тросы. Следы же пребывания людей скрыты под снегом. Путь окончен. Груз сложен под брезентом, а освободившиеся нарты, изрядно помятые жесткой дорогой, лежат перевернутые вверх полозьями. В палатке на печке бушует суп, перехлестывая через край кастрюли. Душно от пара и перегоревшего жира.
Рядом со мною сидит Улукиткан. Он рассказывает о лесной письменности и внимательно следит, как по бумаге скользит карандаш.
Из его рассказа я узнал, что в старину эвенки не делили год на двенадцать месяцев, как это принято всюду. Они его разбивали на множество периодов, в соответствии с различными явлениями в природе, имеющими какую-то закономерность. Даже Улукиткан, доживший до пятидесятых годов нашего столетия, все еще пользуется таким календарем. Он говорит: когда крепкий мороз – январь; много снегу на ветках – февраль; когда медведица щенится – март; прилетают птицы – май; одеваются в зелень лиственницы – июнь; когда олень сбрасывает кожу с рогов – август; когда в тайге трудно собирать оленей – сентябрь; белка становится выходной – октябрь; и так далее. Эти большие периоды, в свою очередь, делились на мелкие, приуроченные к явлениям в природе, имеющим более точное время. Если Улукиткан говорит: «Это было во время начала паута», – то он имеет в виду примерно десятое июня; «когда кукушка начала кричать» – двадцатое мая; начало «гона у сохатых» – пятнадцатое сентября… Этот неписаный эвенкийский календарь хранит в себе много интересных, проверенных столетиями наблюдений о явлениях природы. Как ни странно, некоторые из этих дат долгое время являлись предметом споров в научных кругах.
Эвенки были и есть прекрасные таежники. От их наблюдательности не ускользают малейшие изменения в окружающей обстановке, они прекрасно ориентируются в лесу, разбираются в следах зверей, в звуках и обладают ясной памятью. Для них в тайге нет ничего нового, неожиданного, ничем их там не удивишь. При таких способностях веточка с кольцом и надрезами, которые мы только что рассматривали, вполне заменяет им письмо. Эта довольно странная и необычная письменность кочевника, да и деревянная «расписка» и многое другое дошло до нас из глубокой старины. Жаль, что до сих пор жизнь лесных людей, теперь уже безвозвратно ушедшая в прошлое, их своеобразная и, несомненно, интересная культура остались вне поля зрения наших ученых. Будет непростительно обидно, если со смертью последних свидетелей мы похороним житейский опыт эвенкийского и других северных народов, их прекрасное и тонкое понимание природы.
В письме, оставленном Лебедевым для Пресникова, подтверждалась догадка Улукиткана. Отряд действительно покинул лагерь сегодня утром. Он ушел на восток с намерением обследовать большой узловой голец, со склонов которого берут начало реки Кун-Маньё, Сага, Нимни. Затем предполагает пробраться на южные склоны Джугджурского хребта. О нашем прибытии Лебедев, вероятно, не догадывался.
Сегодня вечером мы встретились в эфире со своими радиостанциями. Нам передали приятные вести. Главный инженер Хетагуров с группой геодезистов третий день штурмует Чагарский голец. Топографы Яшин и Закусин ушли своими маршрутами в глубину удских марей и по кромке Охотского моря. След обоза астронома Каракулина, обогнув с севера Становой, убежал вдоль Джугджурского хребта к истокам Уяна. Наследили нарты геодезистов по рекам Гуанаму, Арга, Селиткан. Обогрелась кострами разрозненных отрядов Тугурская тайга, тонкими стружками побежали снежные тропки к вершинам крутогорбых хребтов. Оживились пустыри человеческими голосами да стуком топоров.
Часть третья
I . Весна идет. – Утро на глухарином току. – Странное поведение медведя. – «Карта» Улукиткана – Снова в путь.
Сегодня девятое апреля. Я проснулся рано. В лагере спокойно, ни суеты, ни говора людского, даже трубы над палатками не дымятся. Это, кажется, первый день за время нашего путешествия, когда не нужно думать о дороге, о наледях, когда усталым глазам не надо всматриваться вперед в поисках прохода.
К лагерю табуном подошли наши олени. Они лениво потягиваются, выгибая натруженные лямками спины. Затем все разом повертывают головы в сторону убежавшей от лагеря реки. Что их тревожит? Я гляжу на реку. Нигде никого не видно, но слух улавливает шорох, будто кто-то, раздвигая почерневшие ветки, несмело идет по лесу. Стайка птиц торопливо проносится навстречу этому таинственному гостю. Вот-он уже совсем близко, от его невидимого прикосновения вздрогнули сережки на ольховом кусте, зашуршали старые неопавшие листья. Я уже чувствую на лице чье-то теплое нежное дыхание…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: