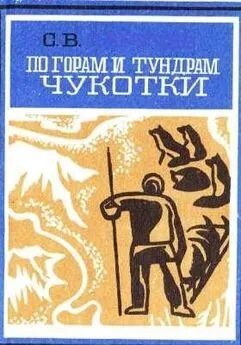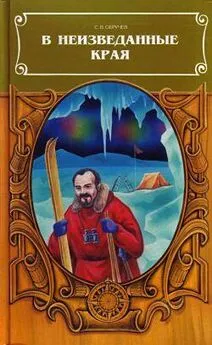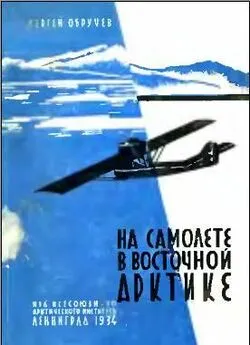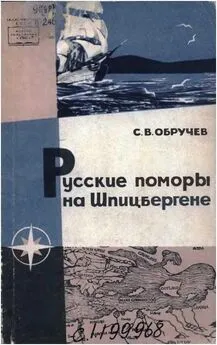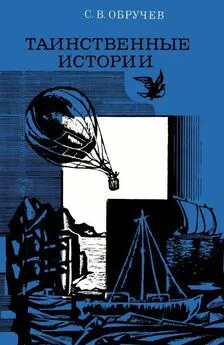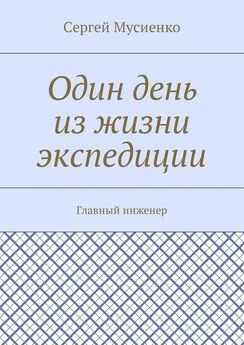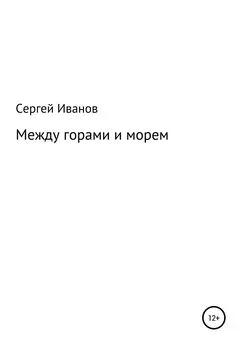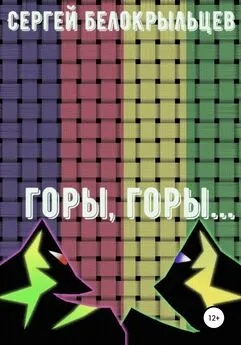Сергей Обручев - По горам и тундрам Чукотки. Экспедиция 1934-1935 гг.
- Название:По горам и тундрам Чукотки. Экспедиция 1934-1935 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Магаданское книжное издательство
- Год:1974
- Город:Магадан
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Обручев - По горам и тундрам Чукотки. Экспедиция 1934-1935 гг. краткое содержание
Автор книги — известный советский геолог, академик Сергей Владимирович Обручев, проработавший много лет на Северо-Востоке нашей Родины, описывает в этой книге Чукотку 1934–1935 гг., свои первые путешествия и экспедиции по этому неизведанному краю.
По горам и тундрам Чукотки. Экспедиция 1934-1935 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Один из чукчей, большой детина со скуластым лицом, говорит, что здесь «Мане-ман» мало, а вот на востоке у мыса очень много, и обещает показать. В награду он просит отвезти его вместе с его уловом на шлюпке до конца утесов, где стоят яранги. Я иду с ним и с другим маленьким парнем вдоль утесов. По дороге он захватывает нерпичью шкуру, снятую целиком и набитую рыбой, и легко несет ее на плече.
В двух километрах далее — еще одна толстая жила, кварц переполнен серным колчеданом и сияет, как золото, когда я отбиваю куски. Чукчи в восторге, но очень удивлены, когда я говорю, что весь этот блеск ничего не стоит.
Но «мане-ман», к которому вели меня чукчи, лежит дальше и оказывается еще менее ценным; это только мелкие желваки серного колчедана в серой стене утеса. Вот и конец утесов, носящих название Энмытагын. В тундре, над пологим берегом, белеют яранги, на широком пляже бродят русские фигуры, а в море блестят белые борта вельбота. Необыкновенная встреча в таком далеком и мрачном углу: это сотрудники культбазы, приехавшие сюда сегодня из Чауна.
Русских трое — краевед Лобода и учительницы Абрамова и Волокитина. Они будут кочевать вместе с чукчами.
Как мне рассказывали потом учительницы, в течение шести месяцев постоянных кочевок им было очень трудно приохотить чукчей к учению. У каждой из них было очень мало учеников — два-три, редко до шести. Чукчи старались не стоять вместе, а разойтись на такое расстояние, чтобы сделать невозможным совместное обучение детей. Обстановка кочевки также мало способствует учению: чуть напьются чаю, полог убирается, и можно учиться лишь на морозе, где-нибудь у стада или в дыму костра в яранге. А вечером, когда расставят полог, опять пьют чай, едят и ложатся спать. По-видимому, главной причиной отрицательного отношения чукчей были шаманы — они считали учение опасным. Хозяин-яранги, в которой жила Абрамова, вскоре вызвал шамана, виновато сообщил ему, что вот у него два несчастья: во-первых, его выбрали в нацсовет, а во-вторых, пришлось приютить русскую. И духи уже гневаются; волки задрали двух оленей. Но он обещает, что в нацсовете он будет делать только то, что соответствует чукотским обычаям, а что касается русской, то она безобидная и почти что чукчанка, и если что сейчас еще делает не так, то потом научится. Последовавшее затем камланье [5] Религиозный обряд, заклинание духов.
должно было избавить хозяина от дурных последствий этих несчастий.
Обе учительницы сжились с оленеводами, принимали участие в работах чукотских женщин и заслужили полное одобрение чукчей, так что к Волокитиной даже дважды сватались чукчи, считая ее вполне пригодной для ведения чукотского хозяйства.
Нельзя не восхищаться самоотверженной работой этих первых пионеров советской культуры, которым в таких тяжелых условиях пришлось вести преподавание и бороться с влиянием шаманов.
День был уже на исходе, нам очень хотелось заночевать у этих яранг, но море спокойно, ровная его поверхность отливает серым блеском, и надо спешить к самому дальнему юго-западному углу губы.
Теперь темнеет уже рано, приближается осеннее равноденствие, и мы доходим до цели опять в полной темноте.
Наутро ветер бьет с севера. Мы с Денисовым выезжаем на лодке с намерением осмотреть низкий ряд утесов к северу, но мотор не желает участвовать в этой поездке впервые за всю свою короткую жизнь он решает серьезно заболеть какой-то таинственной болезнью. Оставив Денисова возиться с мотором, я иду пешком вдоль утесов, отыскивая тот графит, который был обещан одним из местных русских. Но всюду только твердые песчаники и марающие руки глинистые сланцы, которые при некоторой фантазии можно принять за графит. Но зато я нахожу другое очень красивое полезное ископаемое: пляж в некоторых местах покрыт тонким слоем кроваво-красного песка. Он состоит из мелких зерен граната, вымытых прибоем из какой-то изверженной породы. Такие пески представляют превосходный материал для шлифовки и полирования.
На второй день ветер не стихает, мотор все еще болеет, и попытка выехать на юг вскоре кончается неудачей. Я ухожу по утесам и болотам вдоль берега.
К вечеру, победив мотор, Ковтун и Денисов догоняют меня за концом утесов. Дальше к юго-востоку видны только низкие песчаные берега с обрывами и оползнями, тундра с черными прослоями торфа, там геологу почти нечего делать, и исследование губы можно считать законченным.
Приходится здесь заночевать; по-прежнему свежий ветер гонит крутые волны с севера, и с трудом удается пристать и выгрузиться у устья ручья. Пока мы таскаем груз через полосу прибоя, начинает падать густыми хлопьями снег, закрывая все кругом.
У нас есть железная печка, в устье ручья прошлогодний шторм загнал плавник, и мы весело проводим вечер, несмотря на вой ветра. Завтра мы возвращаемся домой — какое хорошее слово «домой»!
Завтра в самом деле мы можем выехать — ветер стих. И нас обуревает дерзкое желание — пройти прямо в Певек наискось через всю губу. Это пересечение еще длиннее предыдущего, отсюда не видно даже вершины Певекской горы, хотя она более 600 м высоты. Смело мы пускаемся на северо-восток, направляя нос шлюпки на горизонт, несколько левее едва видимых вершин восточных гор Детайпиан. Слабая рябь, ветра почти нет; и только мотор что-то шалит: время от времени в нем раздается странный стук, резкий и короткий. За два дня Толе не удалось выяснить его болезнь — надо разобрать его как следует.
Проходит час, мы отошли километров на десять от берега — и положение резко меняется: с юго-востока подымается сильный ветер. Волны быстро нарастают, и со всех сторон видны крутые их гребни с белой пеной. Несмотря на поднятые брезентовые стенки, лодку захлестывает. Надо переменить курс, чтобы волна не била так прямо в борт. Постепенно мы склоняемся к югу, идем уже к Турырыву, но ветер все сильнее, и положение наше становится рискованным. Шлюпка каждую минуту встает на дыбы и затем с силой хлопает носом о волну. Мотор не внушает доверия, не говоря уже о том, что стуки в нем продолжаются. Самое его положение на корме очень опасно: в любой момент его может захлестнуть волной, и тогда он остановится. А завести капризный подвесной мотор на волне не так-то просто. Кроме того, наливать бензин в бак надо высунувшись над кормой, и половина бензина при этом проливается.
Мы принуждены, наконец, бежать под защиту южного берега. Он очень плоский, и ближе чем за полкилометра к нему не подойдешь, даже на нашей шлюпке. И здесь также сильно хватает ветер, особенно, когда надо отходить опять в губу, огибая косы и мели двух устьев реки Чаун. На низкой плоской тундре видны пирамиды опознавательных знаков, поставленных у обоих устьев, здание фактории, серьге стволы плавника и толстые белые чайки на желтом песке пляжа. Ветер срывает пену с коротких крутых волн, а когда мы отходим из-за мелей в море, снова хлещет через борт.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: