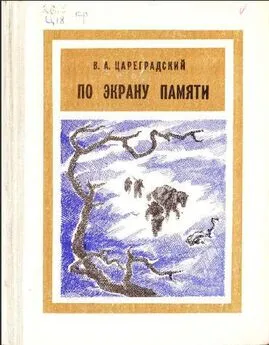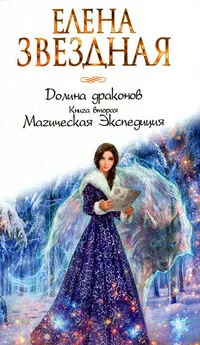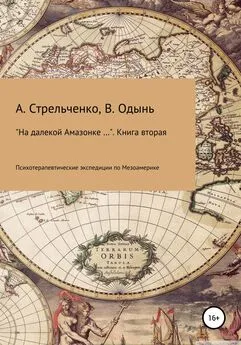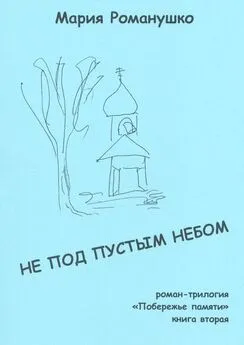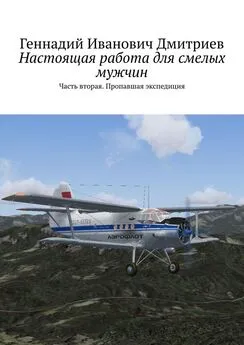В. Цареградский - По экрану памяти: Воспоминания о Второй Колымской экспедиции, 1930—1931 гг.
- Название:По экрану памяти: Воспоминания о Второй Колымской экспедиции, 1930—1931 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Магадан: Кн. изд-во
- Год:1980
- Город:Магадан
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В. Цареградский - По экрану памяти: Воспоминания о Второй Колымской экспедиции, 1930—1931 гг. краткое содержание
Герой Социалистического Труда, участник Первой Колымской экспедиции, руководитель Второй, Третьей и Четвертой экспедиций, а с 1938 года руководитель геологоразведочной службы Дальстроя В. А. Цареградский делится воспоминаниями об экспедиции 1930–1931 годов, которая, наряду с другими, составила значительную страницу в истории планомерного исследования и освоения Северо-Востока СССР.
По экрану памяти: Воспоминания о Второй Колымской экспедиции, 1930—1931 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Но почему именно кекуры? Ведь подобную форму скалы могли получить в результате эрозии и на суше, вдали от морского побережья? — заметил Дима Вознесенский.
— Безусловно, но косвенные признаки морского происхождения хотя бы какой-то части из них являются достаточно убедительными. Например, висячие долины на одинаковой с ними высоте на полуострове Кони без следов ледниковых отложений. Следовательно, долины этих речек оказались относительно быстро поднятыми вместе с поднятием массива полуострова. Широкая и протяженная равнина расположена примерно на той же высоте от восточного берега Тауйской губы до долины реки Ямы. Вполне возможно, что здесь был морской пролив. Никаких характерных признаков речного или ледникового происхождения в ее пределах не обнаружено. Наконец, обширная, почти плоская, со слабым наклоном равнина очень похожа на пологое дно шельфа и ограничена обрывистыми берегами моря, долиной реки Олы и нагорьем, отделяющим ее от долины реки Дукчи. Возможно, что скалистый останец на ее поверхности, названный Дмитрием Казанли «Сахарной головкой», тоже древний морской островок. Определяя там астропункт, Казанли нашел морские раковины. Впрочем, возможно, что они занесены туда позднее чайками.
Наиболее убедительным доводом в пользу морского происхождения этого рельефа, — продолжал я, видя повышенный интерес окружающих, — служит осадочная толща, слагающая современный перешеек между бухтами Нагаева и Гертнера и долинами Магаданки и Дукчи. Более полный естественный разрез осадочной толщи можно проследить в береговом обрыве, вон там, правее поселка, от середины берега до долины речки Марчекан.
— А разве не могут слои со слабоотсортированным материалом близ Марчекана быть все же ледниковыми отложениями? — спросила Рабинович.
Еще перед отъездом на Колыму в 1928 году я тщательно проштудировал довольно обширную литературу по геоморфологии и физической географии. Внимательно изучал особенности морских и ледниковых отложений, их отличительные признаки. Продолжал заниматься этими вопросами и зимой 1929 года на Среднекане. Изучал морские отложения в натуре при исследовании побережья Тауйской губы, бухты Нагаева, Гертнера летом 1928 года, а ледниковые отложения в долине реки Талой — летом 1929 года и потому уверенно заключил:
— Я склоняюсь в пользу отложений внутри спокойного пролива или глубоко врезанного в материк залива.
— Но почему? — продолжал интересоваться Новиков.
— Конечно, мои доводы требуют проверки детальными исследованиями. Но они зиждятся еще и на том, что нигде в пределах бухты Нагаева и Гертнера, как и на побережье Тауйской губы, не было обнаружено типичных и достоверных ледниковых отложений: ни ледниковых цирков, ни конечных и боковых морен, ни «бараньих лбов», ни шрамов и борозд. С очень ярко выраженными и разнообразными свидетельствами оледенения мы встретились севернее, только за Охотскo-Колымским водоразделом — в долине реки Талой. Тот район мог бы служить хорошим полигоном для практики. Здесь же, в береговом обрыве близ долины Марчекана, где обнажен участок нижней части осадочной толщи вперемешку с неокатанными каменными глыбами и хорошо окатанными крупными и средними валунами и песком, — не обнаружено ни одного валуна с бороздами и шрамами, характерными для ледниковых отложений. Отложения у Марчекана подобны типичным морским осадкам в зоне прибоев и скалистых берегов.
Мои слушатели молчали: то ли их удовлетворило объяснение, то ли они раздумывали в сомнении.
— Мне представляется, что сначала уровень моря был значительно выше, — продолжал я, вдохновленный вниманием. — Затем происходило его поэтапное опускание или поднятие земной коры. Лучшим уровнем наиболее высокого стояния прошлого моря, по-моему, и являются вершины гребней с кекурами, как и высота шельфоподобных равнин. Кстати, и на левой стороне Марчеканской долины равнина со слабым наклоном и скалистым останцем на ее поверхности — тоже, возможно, склон шельфа. Ведь похоже? — спросил я, когда все повернулись туда.
— Какое-то внешнее сходство, конечно, есть, — почти одновременно отозвались Вознесенский и Новиков.
— По измерениям Гидрографической экспедиции высота гребней с кекурами около четырехсот двадцати пяти — четырехсот пятидесяти футов. Или, переведя в метры, около 130–140 метров. И если мои предположения близки к действительности, тогда раньше море покрывало большую по сравнению с современной площадь побережья. В этом случае полуостров Старицкого был в то время скалистым островом, и вокруг него накапливались отложения прибойных зон — валунов, галечников, глыб, смешанных иногда с песками. А в защищенном от штормов, относительно глубоком желобе пролива отлагались сначала донные тонкие осадки — илы, глины, которые по мере его обмеления сменялись преимущественно песками. При дальнейшем отступании моря Нагаево-Магаданский и Дукчинский проливы обмелели, обнажился и остров Старицкого, превратившись в часть материка — полуостров. С двух сторон от него сохранились современные бухты Нагаева, Гертнера и Скрытая. Вот такова, мне думается, схема истории образования современного рельефа, составленная на основании исследований летом 1928 года…
Тут мы обратили внимание, что приготовления к разгрузке почти закончились. Уже спустили на воду баржи, начали открывать трюмы, а от берега отошла лодка. Все сразу заволновались, заспешили. Наконец началась разгрузка. Участники экспедиции со всем снаряжением и лошадьми без каких-либо происшествий были выгружены с парохода на берег.
Весь день до предела был занят размещением, устройством, перетаскиванием с берега наскоро выгруженного имущества в безопасное от приливов место, его сортировкой, укрытием. Настроение у всех участников было приподнятое. Работали на редкость дружно, энергично. Особенно много хлопот было в этот день у нашего завхоза Горанского. Он организовал кухню, столовую, выделил поварих, подсобных рабочих, снабдил всем необходимым конюхов и отправил в долину Магаданки для отдыха и откормки лошадей. Провожал их туда по моей просьбе Степан Степанович Дураков, который встретил нас в бухте Нагаева.
За день на берегу вырос небольшой палаточный городок, где разместился весь состав экспедиции, за исключением рабочих, ушедших с лошадьми, да нескольких сотрудников, которые поселились в помещениях Культбазы. Большая брезентовая палатка стала /временным складом. Общая столовая была организована под тентом. Рядом, под меньшим тентом, соорудили кухню.
Не обошлось и без некоторых казусов.
— Валентин Александрович! — обратился ко мне с очень озабоченным видом Горанский. — Как же нам организовать доставку воды для обеда? Ни телеги, ни бочки у нас нет, а ходить пешком с ведрами за два километра далеко, да и долго.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: