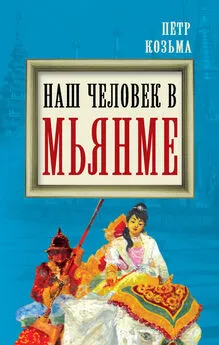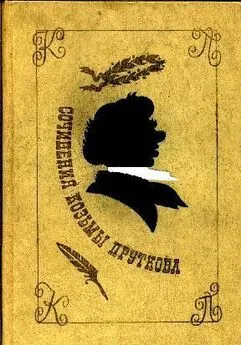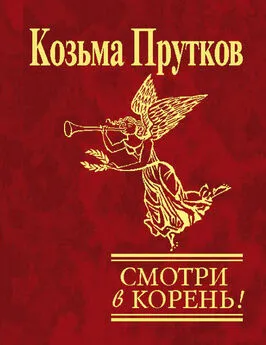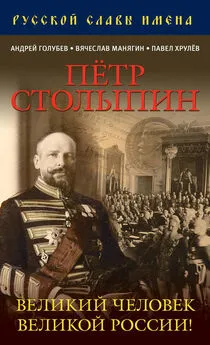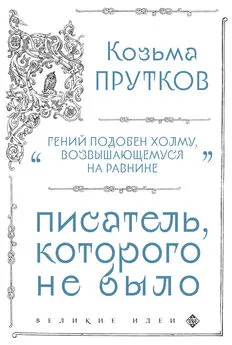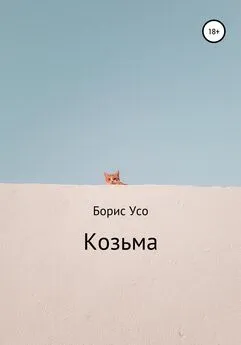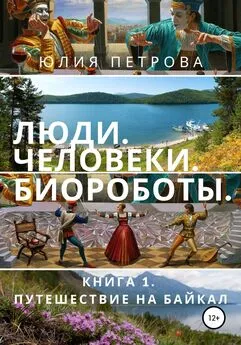Петр Козьма - Наш человек в Мьянме
- Название:Наш человек в Мьянме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Издательство Алгоритм»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0832-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Козьма - Наш человек в Мьянме краткое содержание
Петр Козьма уже несколько лет живет в загадочной Мьянме. За это время ему удалось увидеть изнутри совершенно незаметные для туриста вещи — быт людей, их мировосприятие, узнать, какую еду они предпочитают, во что верят. Он узнал, как вступать с мьянманцами в деловые отношения. Все это он легко и ненавязчиво описывает, часто подтрунивая над местными, сопоставляя с нашими, российскими реалиями. Книга интересна будет каждому, кто хочет погрузиться в мир неизвестной для него страны.
Наш человек в Мьянме - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На сайте отеля говорится: «Окруженный 37 акрами зеленого парка, отель «Инья-лейк» имеет уникальную историю… Отель «Инья-лейк» был грандиозным и впечатляющим жестом, призванным продемонстрировать умения и технологии российских инженеров, архитекторов и технических специалистов, которые приехали и построили то, что было описано иностранными средствами массовой информации как самый современный отель в Юго-Восточной Азии того времени». А в сухой справке специалистов о том же самом говорится так: «Отель «Инья» на 240 номеров, 1958-61 годы, советские архитекторы В.С.Андреев, К.Д.Кислова. инженер А.А.Левенштейн; железобетонный каркас, кирпичные стены; отделка — резная штукатурка, мозаика, орнаментальные решётки, деревянная скульптура».
У человека, выросшего в СССР, этот отель всегда вызывал стойкое ощущение дежавю. При этом архитекторы сделали все, чтобы совместить то, что в СССР казалось несовместимым.
Во-первых, сам отель — это большое прямоугольное здание с ячейками-лоджиями вдоль всей передней стены. Тот, кто бывал в советских санаториях и домах отдыха, сразу себе представит, о чем я говорю. Впечатление схожести до степени смешения дополняет и внутренняя планировка — бесконечные прямые советские коридоры с уходящими вдаль рядами деревянных дверей по бокам.
Видимо, самим архитекторам этот ячеистый стиль советского санатория показался слишком экзотическим для Бирмы. Ясно, что надо было сделать что-то, что оживило бы эту конструкцию и родило какие-то иные аналогии. И они сделали, пожалуй, единственное, что напрашивалось само собой — нахлобучили на крышу по центру здания большую декоративную колонну вытянутой формы. Так санаторий превратился в многопалубный корабль, застывший на берегу озера Инья.
А теперь представьте, что в этот советский санаторий архитекторы пинком влепили сзади советский же дворец культуры, который от удара пробил перпендикулярную коробку насквозь и вылупился спереди в виде высокого парадного крыльца. А сзади, за бетонной прямоугольной коробкой жилого корпуса, начинается буйство советских форм. Главное помещение — большой зал «Мингала» с высоким потолком, стены которого богато украшены узорами и архитектурными деталями. В СССР такие высокие потолки делали обычно на крупных железнодорожных вокзалах и собственно во дворцах культуры… В рангунском дворце можно найти помещение для любого мероприятия — и для роскошной пышной свадьбы на пару сотен человек, и для маленького дружеского обеда в уютном небольшом помещении. Сбоку — выход на ровную зеленую лужайку с подстриженным газоном, прямо к берегу озера; торжества можно продолжить и там.
Нужно ли говорить, что до строительства новых отелей «Трейдерс» и «Седона» именно «Инья» был безальтернативным вариантом для тех, кто хотел, чтобы его свадьба или юбилей запомнились многочисленным гостям надолго. Целое поколение «непростых» янгонцев связывает с «русским» отелем воспоминания о самых грандиозных событиях в их жизни.
Портрет бирманца анфас и в профиль
Гаунг-баунг
На свадьбе одного своего друга-мьянманца, получившего европейское образование и считающего ниже своего достоинства прийти на работу в шлепках, а не в темных ботинках, я поразился происшедшей с ним перемене. Он был одет в традиционный бирманский костюм, а на голове у него был белый чепчик гаунг-баунг. Уже потом, после свадьбы, я спросил, почему он не женился в европейском костюме, как делают многие мьянманцы. Он ответил, что любая культура имеет свои условности, идущие из вековых традиций. Так вот, лучше пусть условности будут свои собственные, чем чужие.
Гаунг-баунг — одна из таких условностей. Это — головной убор, по виду напоминающий чепчик, хотя по сути он представляет собой тюрбан («гаунг» по-бирмански «голова», «баунг» — «обматывать»). Гаунг-баунг, который все еще иногда надевают янгонцы, состоит из двух основных частей — плетеной основы из прутьев в виде полусферы, похожей намячик, разрезанный пополам, и наворачиваемой на него полоски тонкой белой ткани — шелка или хлопка, примерно полтора метра длиной и 25 сантиметров шириной. Конец ткани крахмалится и изящно отгибается сбоку острым углом кверху, отчего становится похож на большое белое ухо.
Для европейца этот одноухий головной убор выглядит смешно, но мой друг, когда я ему сказал об этом, резонно заметил, что если взглянуть на европейский костюм «с чистого листа», то своей нефункциональностью он не вызовет ничего, кроме смеха. Потому что там, где нужно закрывать, он открывает. А самым непонятным, бесполезным, диким и смешным атрибутом, несомненно, будет галстук — то ли поводок, то ли отвес, показывающий вертикальность его обладателя. Вот над чем надо смеяться, а не над гаунг-баунгом, который с функциональной точки зрения представляет собой обычный головной убор — шляпу с украшением типа бантика, в то время как у галстука никакого функционала нет.
Потом я несколько раз видел гаунг-баунги на головах женихов, на людях во время разных религиозных процессий, на участниках приемов у руководителей государства, то есть гаунг-баунг хотя и не часто, но продолжает использоваться при каких-то особенно торжественных случаях.
Говорят, что гаунг-баунг — это творчески переосмысленный тюрбан или даже чалма, в которой ходили жители соседних стран. Крестьяне, обладатели длинных черных волос, выходя в поле, убирали волосы под белый гаунг-баунг: так не печет голову и ничто не мешает работать. При отсутствии погон и знаков отличия тип гаунг-баунга служил для информации о социальном статусе его обладателя. Сохранились описания головных уборов королей Баганского периода, обильно украшенных девятью видами драгоценных камней. Гаунг-баунг стал настолько обязательным атрибутом головы, что в одной бирманской поговорке вместо «кивать головой» (в знак согласия) используется фраза «кивать гаунг-баунгом».
Различные виды гаунг-баунгов свидетельствуют не только о социальных и национальных различиях, но иногда и о том, женат человек или нет. В одной из народностей Мьянмы только неженатый человек мог ходить в гаунг-баунге с «ухом». Женатый надевал гаунг-баунг уже без этого украшения.
Все испортили англичане. Они смеялись над бирманцами, называя гаунг-баунг «свиным ухом», а кроме того, белый головной убор был идеальной мишенью для стрельбы в джунглях. Колонизаторы воспитали в мьянманцах сложную смесь двух разных чувств. С одной стороны, это был стыд за то, что они одеты не так, как цивилизованные люди;а бирманцы — гордый народ, и такие вещи для них всегда очень чувствительны. Но одновременно в них рождаласьгордость за свою самобытность и желание демонстративно носить гаунг-баунг. Вот почему из повседневной жизни гаунг-баунг постепенно выходил, зато во время церемоний, устраиваемых колониальной администрацией, бирманцы демонстративно щеголяли ослепительно белыми чепчиками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: