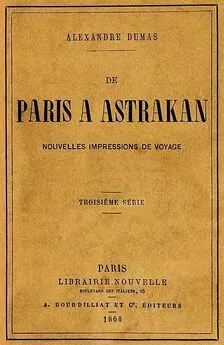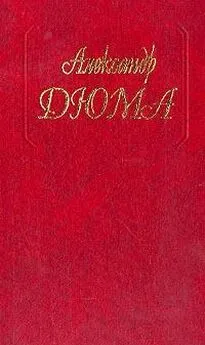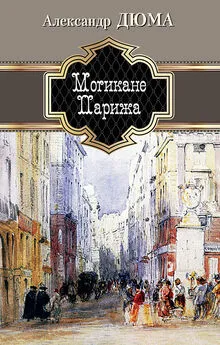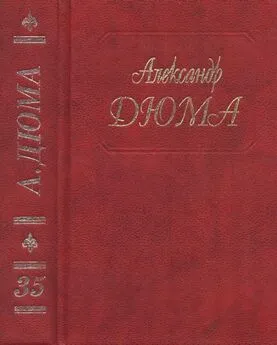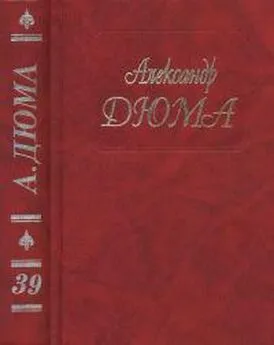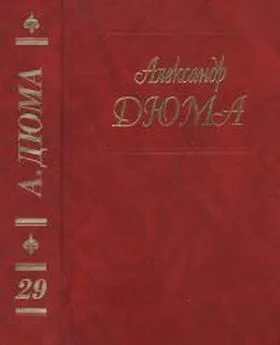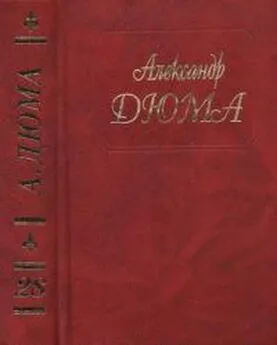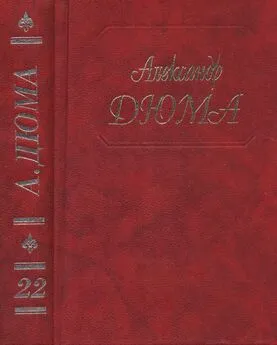Александр Дюма - Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
- Название:Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Спутник+»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9973-0453-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дюма - Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию краткое содержание
Книга писателя мировой величины о России, изданная на Западе в разные годы двух последних столетий. К переводу принят текст, который сам Александр Дюма-отец отправлял в типографию. Это крупные путевые очерки с глубокими экскурсами в историю нашей страны. В них свои портретные рамы покидают государи и вельможи, реформаторы и полководцы, поэты и декабристы, становясь героями увлекательных и познавательных новелл, непрерывная цепь которых тянется через события веков от русских княжеств к империи Александра II, современной писателю. Воссозданы картины великих побед над «непобедимыми» армиями Карла XII и Наполеона. Оставлено клеймо гнусного рабства на крепостном строе, высмеяны царящие в стране злоупотребления и коррупция.
Книга складывалась во время путешествия Александра Дюма по России в 1858―1859 годах. Основные замечания и выводы писателя не утратили своего значения. Россия еще долго будет узнавать себя в зеркале этих очерков.
Перевод, вступительная статья и примечания: Владимир Ишечкин
Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я передам его содержание почти так же, как фотография передает жизнь.
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства –
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Мы закончили перевод, когда после поворота на одном из изгибов Волги услышали крики наших компаньонов:
― Углич! Углич!
Я поднял голову и увидел на горизонте настоящий лес колоколен.
Я занимался переводом Лермонтова с таким рвением, потому что невозможно увидеть ничего более грустного, чем берега Волги от Калязина до Углича. На протяжении этих 30 ― 40 верст река глубоко запрятана между разрушенными всеми паводками Волги двумя склонами, лишенными даже зеленого шарма. С приближением к Угличу, расположенному в излучине Волги, правый берег реки понижается и развертывается в плато, где и построен город.
Слава Углича совсем уж легендарная; жуткая драма, значение которой должно было сказаться на судьбах России, произошла здесь в 1591 году. Мы много говорили об Иване IV, кого русские назвали Грозным, другие князья, его современники, ― Палачом, и кого мы назовем Безумным. Подлый и суеверный, никогда не видавший поля боя, ни одной из победных баталий, которые прославили его правление, в то же время он ― определенная историческая величина, и некоторое народное уважение до сих пор связано с его именем. То, что было в его правление, это ― отброшенные поляки, побежденные татары, начало смутного прозрения русских относительно своих великих судеб и познание собственной нарождающейся силы, русских, объединенных рукой его тирании, организованных его деспотизмом. Мы рассказали, как он умер. Умирая, он оставил от семи-восьми браков двух сыновей: Федора и Démétrius ― Димитрия. В приступе гнева, вспоминают, он убил Ивана, третьего сына. Отцу наследовал Федор, а титул царевича перешел к маленькому Dmitry ― Дмитрию, хотя греческая [ортодоксальная, православная] церковь признает законными наследниками только детей, которые родились в результате первых четырех браков; Дмитрий же был рожден от седьмого. Но, так как Федор был человеком мягкого характера и слабого здоровья, ему не предрекали долгой жизни и боялись волнений вслед за возможной смертью Федора, если трон не будет закреплен за подрастающим Дмитрием.
Для него большим удовольствием ― мы говорим о Федоре ― было проговаривать молитвы, предаваться чтению божественных легенд или самолично звонить в колокола, чтобы сзывать верующих к службе.
― Это пономарь, а не царевич, ― говаривал, вздыхая, Иван Грозный.
С подобным характером, с подобной организацией управление такой империей, как Россия, было невозможно; поэтому Федор, весь в молитвах, чтении, религиозных забавах, отдал власть своему шурину ― Борису Годунову [229] Годунов Борис Федорович (около 1552―1605) ― царь с 1598 года; скоропостижно скончался в разгар борьбы с Лжедмитрием I; царем был провозглашен малолетний царевич Федор, но 1 июня 1605 года восставшие горожане свергли Годуновых, и Федор был убит.
. Сначала, прежде чем стать фаворитом, он ходил в звании обер-шталмейстера, потом в более значительном ранге ― регента. Праздный король из рода Рюрика, Федор держал у себя дворцового управделами. Благорасположение к нему вело начало от Ивана, хотя Годунов происходил от татарского мурзы. При старом короле он занял место в имперском совете, и, странная вещь, милость к нему пришла подле хищника с человеческим лицом, потому что он был единственный, кто отважился протянуть руку, когда тот ударил своего сына, и поднять умирающего сына ― жертву отца. Он воспользовался влиянием, чтобы выдать замуж за Федора свою племянницу Ирину. Регент сразу определил каждому свое место: Федору ― ответственность, себе ― акты, своей родственнице ― расположение и милости. Таким образом, ответственность, то есть самый тяжкий груз, свалилась на того, кто был чужд всякой административной деятельности. Борис обеспечил себе почет, родственнице ― признательность.
По завещанию Ивана, город Углич был определен как удел малолетнему Дмитрию. Борис отослал ребенка в его удел и, под предлогом заботы о воспитании молодого князя, он туда удалил ― выражение «он туда сослал» было бы более правильным ― вдовствующую царицу, Марию Федоровну, и трех дядей царевича: Михаила, Григория и Андрея Нагих. Борис знал от родственницы, что у нее с Федором не будет ребенка, знал от врачей, что тот умрет молодым. И он поступил соответствующим образом.
В 1591 году, то есть в эпоху, когда Генрих IV осадил и взял Париж, малолетнему Димитрию [Démétrius] было 10 лет, и он держал в Угличе свой маленький двор из воспитателей и офицеров большого звания. Не стоит говорить, что некоторые из этих сановников были платными шпионами Бориса. Значительное пособие на содержание малолетнего князя выплачивалось через секретаря регентской канцелярии по имени Михаил Битяговский [230] Битяговский Михаил (?―1591) ― дьяк, приближенный Бориса Годунова, управлял дворцовым хозяйством вдовы Ивана IV, Марии Нагой, жившей в ссылке в Угличе с сыном, царевичем Дмитрием Ивановичем; он действительно был обвинен Нагими в убийстве царевича и вместе с сыном Даниилом растерзан угличанами.
, всецело человека Бориса Годунова. Нужда в деньгах этого маленького двора, особенно из-за трех развратных дядей, охотников и пьяниц, была огромной; они вели дискуссии, в которых князья ссылались на свой ранг, как бухгалтер на свои ведомости, и которые всегда заканчивались триумфом Битяговского, чувствующего поддержку регента. Битяговский мстил за себя мелочными притеснениями, что всегда доступно человеку, заведующему кассой. Дяди отвечали непристойными речами. Царица принимала сторону своих братьев и внушала юному Дмитрию [Dmitry] ненависть к Борису. Эти речи повторялись при дворе. Эта ненависть ребенка переходила границы: говорили, что слабеющее здоровье царя находилось в зависимости от колдовства, творимого тремя татарами, что один из них, в частности, Михаил, содержал астролога, который сообщался с коллегами Франции и Италии. Припоминаются восковые изображения, Ла Моля и Коконна, препровожденные на эшафот 20-ю годами ранее, такие же приемы были-де испробованы в отношении Федора.
Интервал:
Закладка: