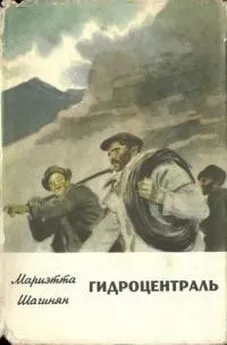Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма
- Название:Зарубежные письма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма краткое содержание
Зарубежные письма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это было в годы огромной, государственного размаха подготовки ко дню юбилея азербайджанского классика XII века Низами Гянджеви. Только одна советская власть могла позволить себе такой размах для чисто гуманитарной цели. Освоить нашей культурой гениальное наследство Низами — значило перевести пять его больших поэм («Хамсе», пятикнижие) с фарси на русский, на языки национальных советских республик. А для этого — привлечь к делу крупнейших ученых-востоковедов, чтоб они создали точные подстрочники с необходимыми комментариями, и поэтов, чтоб они оформили эти подстрочники поэтически, воссоздали их художественно. Целый творческий коллектив приступил у нас к многомесячной работе.
Мне досталась самая трудная поэма, «Махсан-уль-Асрар» («Сокровищница тайн»), бессюжетная и философская. Подстрочники к ней сделал превосходный иранист, профессор Рамаскевич, — но что это были за подстрочники! Весь совершенно неведомый мне мифологизм мусульманства, незнакомые, странные метафоры, названия вещей и предметов из лексикона мусульманских суфийских сект, их одежд, их еды, их психических состояний, ссылки на случаи в жизни Магомета — например, потеря им зуба или взлет на седьмое небо… Я чувствовала себя беспомощной, заблудившейся в этой чужой и чуждой мне словесной пуще, где не могла найти опоры ни в одном образе. Взялась за Коран в переводе Саблукова, нашла себе советчика — не среди ученых, а в лице бакинского моллы, для которого Коран был практической частью его жизни.
Из чтения книг, где упоминалось о Низами, я узнала, что «Сокровищница тайн», состоявшая из длинных философских рассуждений (макалэ) и сопутствующих им коротких басен, была полностью переведена с фарси на английский только единственный раз, англичанином по фамилии Хиндлей. Но перевод его остался в рукописи и хранится в Лондоне, в библиотеке Британского музея… Я загорелась во что бы то ни стало добраться до этого перевода и прочесть его, а вокруг были скептики. Кто-то из ученых сказал мне, что получить место в читальне Британского музея, рассчитанной на очень скромное число посетителей, почти невозможно. Крупнейшие ученые всего мира ждут своей очереди месяцами. «Да и кто вас туда пустит? И что даст вам, в конце концов, этот английский перевод, явно любительский, оставшийся в рукописи?»
Но я не сдавалась и ничему не верила.
Дело в том, что молла, явно брезговавший присутствием своей ученицы — иноверки, женщины и, «наверное, большевички», — минутами забывал про нее, воодушевлялся и входил в религиозный раж. И тогда — в эти минуты — весь он преображался, язык его — очень плохой русский — креп до громадной силы пафоса, и я, только глядя на него, только вполслуха, начинала охватываться тем, что никакой крупный ученый не смог бы дать мне, — атмосферой мусульманского восприятия мира. Образы, казавшиеся абракадаброй, оживали и выстраивались в систему, как только мне удавалось схватить связь между ними; пафос — насчет какой-то потери зуба или мифического коня, возносящего пророка на «седьмое небо», — приобретал свой психологический смысл, свою связь с древними греческими мифологемами, с Олимпом, с Пегасом, с «ахиллесовой пятой», и даже с «Божественной комедией» Данте, к которому докатывалось в эпоху Ренессанса веянье Востока. Словом, я входила в Низами, в его мир, в его эпоху, в его окруженье, и, чем больше узнавала его, тем глубже и всеохватней хотелось узнать его. Мне открылась в те дни мудрость моего выбора в советчики не ученого-ираниста, для которого Низами был не «вчера» и даже не то далекое «вчера», какое немцы называют «плюсквамперфектум» (давно свершившееся), — а скромного живого моллу. Для этого моллы мой материал был его «сегодня»; вдобавок сильно атакуемое «сегодня», не признаваемое «новой властью» за истину, которую долг приказывает с «пеной у рта» защищать.
Надо сказать — мне вообще невероятно везло с моей «Сокровищницей тайн». «Литературная газета» неожиданно поместила в те дни статью Кристофера Мэхью, сотрудника тогдашнего Британского совета в Лондоне, ведавшего советскими вопросами и относившегося к нам отнюдь не с «симпатией». Статья касалась возникавшей проблемы обоюдного туризма, и Кристофер Мэхыо ратовал в ней не только за коллективный туризм (группами, с гидом), но и за возможность индивидуального туризма, то есть поездок в одиночку. Вслед за ней появилась в «Литературке» другая, наша статья, решительно критиковавшая Мэхыо за его «индивидуальный туризм». И вот, приехав по командировке в Лондон, я в первый же день по приезде очутилась лицом к лицу не с кем иным, как с Кристофером Мэхыо.
В этот день в советском консульстве был скромный (не посольский) прием для наших, только что прибывших, работников просвещения, и Мэхью оказался в числе приглашенных англичан. Нас подвели друг к другу знакомиться. Услышав его имя, я воскликнула: «Мистер Мэхью! Я читала вашу статью в «Литературке»! И совершенно согласна с вами насчет индивидуального туризма…» Справа и слева ребра мои ощутили предостерегающее нажатие — чтоб не зарывалась. Все-таки ведь «не симпатизирует советской власти». Но мое неосторожное восклицанье было сделано от души — лично для меня коллективный туризм был мукой. С плохим слухом и зрением, но всегда с собственными познавательными целями — узнать для работы то-то и то-то, повидать для работы то-то и то-то — я просто прозябала бы в группе с гидом, теряя время на осмотр ненужного мне, знакомого с самой ранней юности и не имея возможности почитать или повидать нужное. И тут — неожиданно — на лице Мэхью расцвела улыбка. Улыбка удовольствия на лице сугубо официальном. Не просто улыбка — но знакомая мне, близкая мне, — улыбка автора. Кристофер Мэхью улыбнулся как автор неожиданно признанной и похваленной собственной статьи. Лед сдвинулся, завязался разговор.
— Вы приехали как туристка?
— Нет, мне до зарезу надо (heighly essential! — на плохом английском) позаняться в библиотеке Британского музея, но заранее знаю, что это очень трудно, невозможно, из-за недостатка свободных мест…
— Где вы остановились?
Называю гостиницу. И всё. Утром мне принесли элегантный конверт с печатью Британского совета на конверте. В нем было нечто вроде наших анкет, но с одним-единственным вопросом: над чем именно хочу заниматься в библиотеке? И письмо — с просьбой заполнить ее и «отправиться с этой анкетой в дирекцию библиотеки», — когда и в котором часу мне будет удобно.
Сейчас этому первому моему свиданью со знаменитой Ридинг-рум уже много лет. Но хорошо помню поспешность, с какой я использовала это «когда и в котором часу»: захватив тетрадку и карандаш, я тотчас помчалась, держа перед носом раскрытый план, на Руссель-сквер, к великолепному зданию музея, окруженному массивной решеткой. Сейчас это здание, как почти все в консервативной Англии, начиная с денежной системы и кончая числом этажей на новых жилищных корпусах, модернизируется, поддалось «веянью времени», — и милый, маленький, но такой вместительный, маленький, но такой огромный для того, кто имел счастье работать в его круглом храме под высоким, полным воздуха куполом, читальный зал будет разобран, перестроен, увеличен, а может быть, уже перестроен и увеличен, а может быть, и вовсе покинут и обрел бытие в другом, резко расширенном и модернизированном архитектурном пространстве? Но, как и множеству людей, англичан и неангличан, мне жалко его, жалко места, где сиживал Владимир Ильич, где дважды посчастливилось работать и мне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
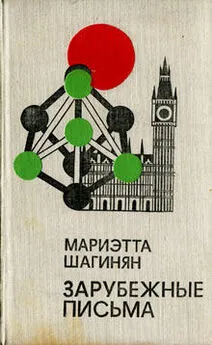

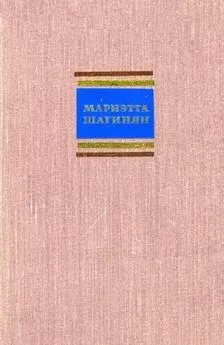
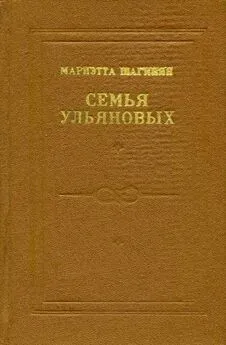
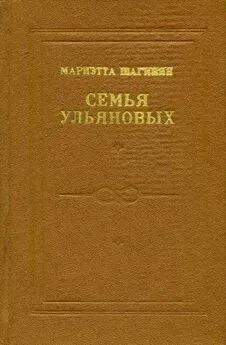
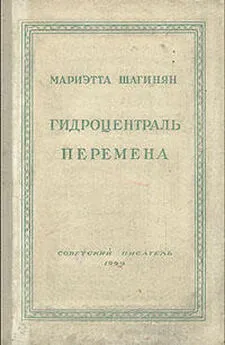

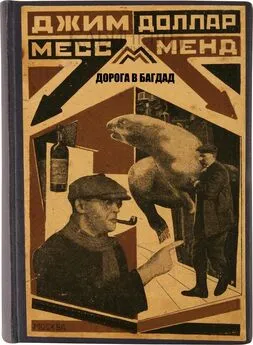
![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)