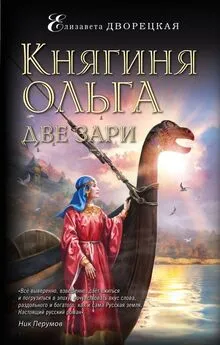Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Название:Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] краткое содержание
Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, обычай давать знатному покойнику с собой сопровождающих-слуг в обсуждаемое время был хорошо известен. Именно так слушатели воспринимали рассказ о пяти тысячах древлян, убитых на могиле Игоря и ставших его слугами в ином мире. Нереально огромная цифра их служила усилению художественного эффекта. То же, что эти случаи мести прибавлялись один к другому, порождено могучим принципом, по которому фольклор утраивается всякое сюжеообразующее событие: три поездки, три похищения, три встречи, три погони, три препятствия, три поединка…
Иногда сложно бывает сказать, что из чего родилось: какой-то архаичный ритуал породил фольклорный сюжет («как бывало» превращается в «как случилось однажды») или сам ритуал рождался из мифа – сюжета о высших силах, повторение которого в реальности обеспечивало обновление мира живых. В истории о трех «мстях» Ольги фольклорные сюжеты тесно сплелись с архаичными ритуалами и породили сказание, которое, с одной стороны, находило подтверждение в реальных обычаях и представлениях тех, кто его рассказывал и слушал, но при этом художественно усиливало эффект, поднимая героиню до небесных высот. Или опуская в бездну, если в ней видели образ богини мертвых. Так или иначе, предание, не осуждая «узаконенной» жестокости, награждало героиню божественным статусом владычицы жизни и смерти – что очень хорошо соответствовало общим представлениям о божественном статусе князя и его роли в деятельности земного мира.
Здесь имеет смысл отметить еще один небольшой, но, как представляется, важный момент. Ни в «Русской Правде», ни в скандинавских правовых памятниках женщина не входит в число лиц, имеющих отношение к делам кровной мести. Женщине не мстили – за нее отвечал мужчина, но и сама она не могла исполнять роль мстителя. По «Русской Правде» право на отмщение имеют сын, брат, племянник по сестре, но не жена, не дочь, не мать, не сестра или племянница. Складывается парадоксальная ситуация: по закону ни Ольга как женщина, ни Святослав как маленький ребенок не имели права мстить за Игоря. Но по легенде именно они вдвоем это и сделали, а те лица (племянники), которые имели право осуществлять месть, в легенде вообще не упомянуты. Что здесь нашло отражение: сюжеты героических песен? Политическая ситуация, в которой только вдова и сын Игоря были желательны в качестве его наследников? Скорее всего, политика была основной причиной, а сюжеты пришли на помощь, чтобы узаконить в памяти потомков переход наследства Игоря именно к этим двоим.
«Путь свой вершите, как дух вам велит»…
Мы рассмотрели сходство сюжета древлянских казней с ритуалами погребения, что было в науке отмечено давно. Но остается вопрос, каким же образом ритуал превратился в летописный сюжет? Напрямую ли произошел переход? Едва ли – между ними должен быть какой-то «мостик». Это парадокс: эпизоды древлянских казней – самая популярная часть «Ольгиного мифа» – сейчас многими принимается за правду, за описание реальных событий, случившихся в Киеве в 945 году, в то время как история формирования этих эпизодов, пожалуй, во всем «Ольгином мифе» самая сложная. Эти эпизоды берут начало в седой старине, за много веков до появления Ольги на свет. Между обрядом погребения и сюжетом сказания был еще один этап – весьма важный и самостоятельный. Этап героической песни. В рассказе о смерти Игоря и мести Ольги ясно обнаруживается сходство с сюжетами германского героического эпоса, где персонажи творят немыслимые жестокости, жертвуют своей и чужой жизнью, порой даже непонятно, ради чего и с какой целью. Гуннар требует, чтобы враги вырезали сердце у его брата, Гудрун убивает собственных детей и кормит их мясом своего мужа, Брюнхильд добивается смерти Сигурда, которого любит так сильно, что по доброй воле восходит на его погребальный костер… Как показал А. Я. Гуревич в работе «Эдда и сага», эти жуткие сюжеты идут из древнейших пластов сознания и описывают архаичные ритуалы жертвоприношений. Герой, совершающий ужасные, кровавые поступки, сказанием не осуждается, а напротив, восхваляется за твердость духа перед лицом гибели. Но позднее на основе воспоминаний об этих ритуалов родились сюжеты героического эпоса, где эти кровавые ритуалы сконцентрировались вокруг фабулы, описывающей межродовую распрю и кровную месть – месть стала сюжетным поводом для кровопролитий, которые изначально совершались в ходе жертвоприношений. Создатели «Песни об Атли», описывая, как по его приказу у одного брата его жены у живого из груди вырезали сердце, а другого бросили в яму со змеями, уже не имели в виду ритуал жертвоприношения, но созданные на его основе сюжеты продолжали поражать воображение слушателей.
Поведение княгини Ольги в эпизодах древлянских казней обнаруживает немалое сходство с этими сюжетами. Ее месть за Игоря показывает «избыточную жестокость», присущую героическим песням: за жизнь мужа она берет жизнь сначала двадцати «лучших мужей», потом еще восьми, потом пяти тысяч (!), потом целый город, а еще ведь были жертвы полевого сражения… Причем способы их умерщвления тоже особенно жестоки – благодаря чему эти сюжеты и сейчас вызывают живой отклик у современного читателя. «Персонаж героической песни, – пишет А. Я. Гуревич, – идеальный герой, человек долга и чести, не останавливающийся ни перед чем, чтобы защитить и утвердить честь рода или собственную честь. Верность священным обязательствам по отношению к сородичам, подданным, дружинникам, друзьям, удовлетворения от сознания выполненного долга – таковы ведущие мотивы героической поэзии» [60] Гуревич А.Я. «Эдда и сага», Москва, Наука, 1979.
… Именно этому героическому идеалу отвечает поведение Ольги в описанных эпизодах.
Но здесь нужно отметить важный момент. Сказание о древлянских казнях, как мне кажется, представляет собой, по сравнению в «Песнью об Атли» и ей подобными, уже следующий этап развития сюжета. Первый этап: собственно описание ритуала жертвоприношения. Второй: героическая песнь, где этот древний ритуал составил основу сюжета о кровной мести. Но в нашем случае, с Ольгой, сюжет о мести древлянам был отнесен не в древние героические времена, а в совершенно реальное, недавнее прошлое – по крайней мере, связи между временем создания ПВЛ и эпохой Ольги были живыми и конкретными.
Б. А. Рыбаков давно предложил вычленить в летописном тексте устное эпическое повествование, «предположительную реконструкцию», где повествованию придана форма эпической песни.
И принесоша я на дворъ къ Ользѣ,
И, несъше я, и вринуша въ яму и съ лодьею.
И приникши Олга и рече имъ: «Добьра ли вы честь?»
Они же ркоша: «Пуще ны Игоревы смѣрти».
И повелѣ засыпати я живы, и посыпаша я…
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]](/books/1068370/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif.webp)



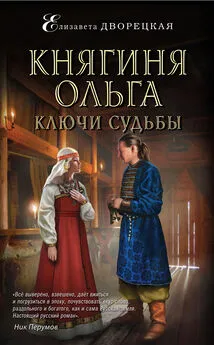
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/1078936/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam.webp)