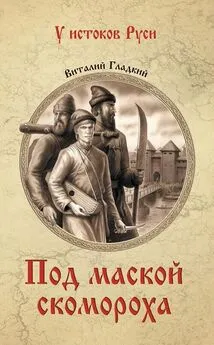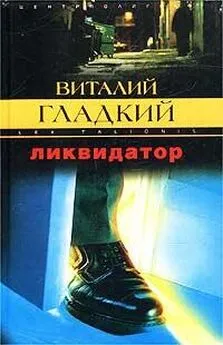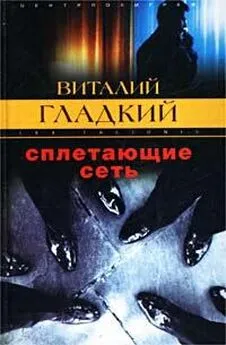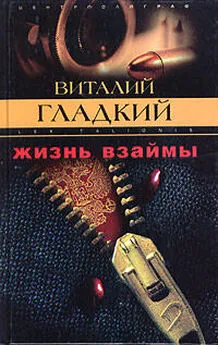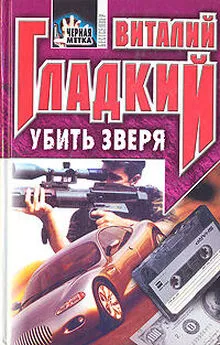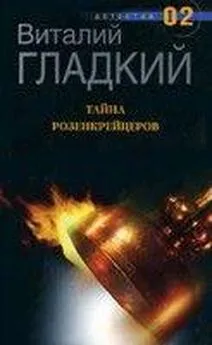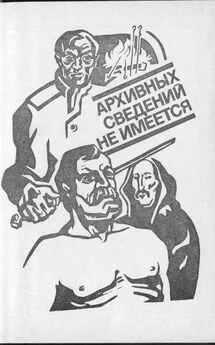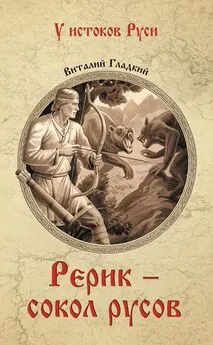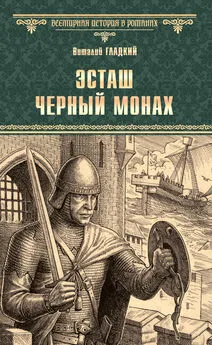Виталий Гладкий - Под маской скомороха
- Название:Под маской скомороха
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-7224-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Гладкий - Под маской скомороха краткое содержание
Под маской скомороха - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Истома никогда не бывал на Керети. Ему уже приходилось выходить в море и рыбачить в озерах, он умел управляться с веслами и парусом (дети поморов быстро взрослеют), мог бросать сеть и знал, как словить красную рыбу на уду, был способен приготовить особую наживку, чтобы рыбалка вышла удачной, но так получилось, что по Керети он шел впервые. Ему здесь нравилось абсолютно все; даже те моменты, когда он пыхтел вместе со всеми, прорубая в мелколесье просеку для волока и заготавливая короткие древесные чурки, чтобы карбас шел не юзом, а катился по ним.
Юный Яковлев не испытывал усталости. Ему недавно исполнилось четырнадцать лет, он превратился в гибкого, как лоза, и шустрого, словно белка отрока, обладающего недюжинной силой, к тому же не по годам смышленого и начитанного. Ума и грамотности у него значительно прибавилось от общения с иконописцем Матвеем Гречином – его новым учителем и наставником.
Их знакомство получилось совершенно неожиданным. После окончания «училища» дьякона Есифа, Истома маялся праздностью, если не сказать дурью. К делу его приучать было рано, особых забот в зажиточной боярской семье Яковлевых он не испытывал, поэтому по натуре деятельный юнец убивал время как только мог и умел.
Поначалу днями он пропадал в компании сверстников, – рыбачил, охотился и вместе с ними устраивал разные каверзы, затем, наигравшись и натешившись вволю свободой, устал от ничегонеделания и начал вырезать из кости разные фигурки. Этому ремеслу он научился от отца. В Колмогорах многие занимались резьбой по кости, благо в Заволочье и рогов Индрика-зверя, и рыбьего зуба [30] Рыбий зуб – моржовый клык ( устар .).
хватало с избытком, а зимние вечера скучны, длинны, и чем-то нужно себя занять. Женщинам в этом вопросе было проще: они ткали, вышивали, вязали, шили одежду, а некоторые даже тачали обувку.
Но затем Истоме пришел в голову потрясающий замысел. Что самое интересное – среди ночи! И он взялся за работу с нерастраченным на разные житейские заботы пылом юности и яростной самоотверженностью первопроходца.
Первым делом Истома сколотил небольшой двухэтажный ящик-домик из тонких досок – чтобы с ним было легче управляться. Затем установил его на ножки – точно как стол – приспособил к нему ставни, на каждом этаже вырезал в задней стенке ящика окна и двери, соорудил перильца на балкончиках, и у него получились миниатюрные господские хоромы. После этого он стащил у матушки кусок тонкого зеленого бархата, который остался у нее от рукоделья, и смастерил для своего потешного ящика-вертепа (именно его и замыслил создать юный умник!) занавес, который должен был скрывать все, что творилось ниже и позади него, – то есть туловище и ноги кукловода.
Дальнейшая работа оказалась гораздо труднее, потому что нужно было обустроить в потешном ящике сцену. Собственно говоря, это был не совсем вертеп, как его однажды обрисовал дядя Нефед, который видел нечто подобное на Готланде. Истома не намеревался показывать разные библейские истории. Наоборот – для начала он решил задействовать в своих представлениях народных любимцев Василия Буслаева и купца Садко, притом отнюдь не в героическом виде, а также Ивашку-дурачка. Истома собирался сделать его главным персонажем своих представлений. Дурак, он и есть дурак, поэтому волен говорить все, что только взбредет ему в голову. И ничего ему за это не будет.
Куклы у него получились – загляденье, хотя попыхтеть над ними пришлось. Он и одежку для них пошил, и лица нарисовал. А вот с раскраской вертепа – с прорисовкой внутреннего убранства хором – у него вышла загвоздка. Мазила из Истомы оказался никудышный. И тогда он вспомнил, что в Николо-Корельском монастыре обретается знатный иконописец Матвей Гречин, о чем ему поведала мать, которая часто жертвовала обители, пребывающей в запустении после набега мурманов, деньги и продовольствие.
Прежде Матвей Гречин жил в Великом Новгороде, но чем-то не потрафил властной боярыне Марфе Борецкой, и ему пришлось перебраться в Заволочье, где его приютили монахи Николо-Корельского монастыря. Собственно говоря, в северные пятины переселялись многие новгородцы, в том числе и посадник Своеземцев, друг семьи Яковлевых, сбежавший от мстительной боярыни Марфы Борецкой и поселившийся с семейством на Ваге. Василий Степанович Своеземцев даже основал Богословский монастырь, чем заслужил большое уважение поморов. А боярин Мирославский, товарищ Своеземцева, сбежать не успел и поплатился за тяжбу с Марфой Борецкой заключением в подземную тюрьму.
Заволочье всегда было местом подвигов боярской молодежи, которая вступала в борьбу с инородцами и московскими отрядами и нередко отказывала в повиновении даже самому Великому Новгороду. Поэтому беглых из северных пятин никогда не выдавали новгородским приставами, хотя такие поползновения случались, да больно руки коротки у них были.
Для юного выдумщика, легкого на подъем, собраться – только подпоясаться. Нацарапав на бересте несколько слов матери – чтобы ее успокоить (отца дома не было, он объезжал свои владения – соляные копи) – Истома закинул потешный ящик за плечи, благо тот весил немного, ножки он сделал съемными, а еще ему сшили для вертепа чехол с лямками, двумя кожаными ремешками, дабы можно было его переносить, и подался на пристань, где быстро сговорился с кормчим карбаса, который отправлялся на ловы в устье Двины. Утром следующего дня он уже входил в ворота Николо-Корельской обители. Его впустили сразу, безо всякой задержки, когда он сказал, что сын боярыни Любавы Яковлевой. Для приличия поставив перед иконостасом свечу и отдав монастырскому казначею подношение, – кошелек с монетами – принятое с поклоном и благодарностью, он попросил провести его в келью Матвея Гречина.
Возможно, монах и удивился такой необычной просьбе, прозвучавшей из уст отрока, но виду не подал. Имя боярыни Любавы Яковлевой могло открыть перед ее сыном все двери в монастыре, даже те, куда простым мирянам запрещалось входить.
Впрочем, Матвей Гречин не выразил желания стать монахом-затворником и жил в отдельной избе, мало напоминавшей келью схимника. Он вполне довольствовался надежным убежищем – святой обителью, охранявшей его от гнева сильных мира сего. Так что крыша над головой у него была надежная, да и кормили его вполне сносно. У Николо-Корельского монастыря была своя солеварня и богатые рыбные ловища, поэтому продовольственных запасов хватало и для монахов, и на продажу. За приют и харчи иконописец Матвей Гречин платил своими трудами – писал образа, пользовавшиеся большим спросом по всему Заволочью и даже в Новгороде.
Художество в семье Гречина было делом семейным. Его знаменитый предок Олисей Гречин два с половиной века назад руководил артелью иконописцев, расписавших церковь Спаса Преображения на Нередице. Был он и впрямь греком, связавшим свою судьбу со святой Русью. Но в крови Матвея греческая кровь присутствовала в мизерном количестве, так как все женщины его рода были новгородками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: