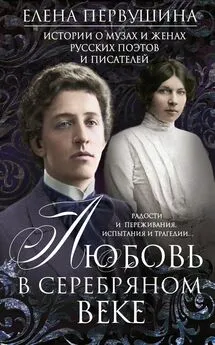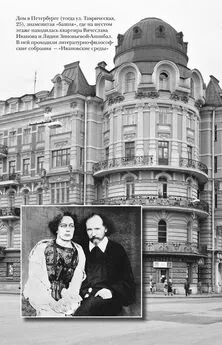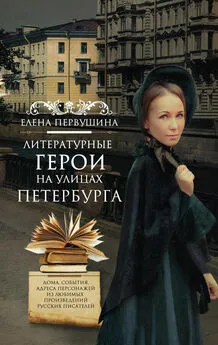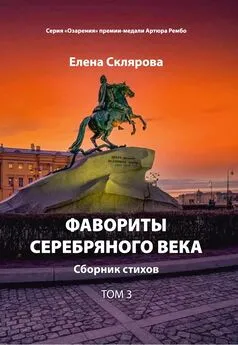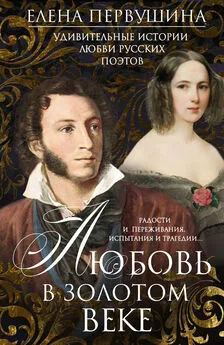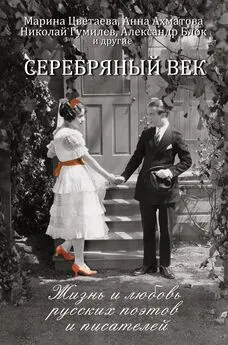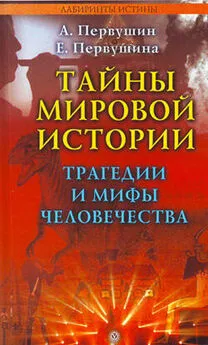Елена Первушина - Любовь в Серебряном веке. Истории о музах и женах русских поэтов и писателей. Радости и переживания, испытания и трагедии…
- Название:Любовь в Серебряном веке. Истории о музах и женах русских поэтов и писателей. Радости и переживания, испытания и трагедии…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2021
- ISBN:978-5-227-09726-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Первушина - Любовь в Серебряном веке. Истории о музах и женах русских поэтов и писателей. Радости и переживания, испытания и трагедии… краткое содержание
Любовь в Серебряном веке. Истории о музах и женах русских поэтов и писателей. Радости и переживания, испытания и трагедии… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«– Погляди, Макс, на Сережу, вот – настоящий мужчина! Муж. Война – дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь? – Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают иначе, чем я. – Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.
– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется „животные инстинкты“…»
Вполне логично, что Лиля разделяла его взгляды, которые и отразились в стихотворении.
Другие стихи – более лирического толка. Среди них одно, особенно нравящееся Цветаевой:
Чье блестящее забрало
Промелькнуло там, средь чащ?
В небе вьется красный плащ…
Я лица не увидала.
Другое стихотворение понравилось сразу и Цветаевой, и Ахматовой:
Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек-мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.
<���…>
Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей,
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.
Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым,
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.
Как вспоминает Волошин, у этих стихов была и весьма прагматическая цель – Маковский постоянно посылал Черубине очень дорогие букеты из оранжерейных орхидей, и «мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников „Аполлона“, на которые мы очень рассчитывали».
Следующее стихотворение обыгрывает тему «Двойника»:
Вижу девушки бледной лицо, —
Как мое, но иное, – и то же,
И мое на мизинце кольцо.
Это – я, и все так не похоже.
<���…>
Нет для других путей в твоем примере,
Нет для других ключа к твоей тоске, —
Я семь шипов сочла в твоем венке,
Моя сестра в Христе и в Люцифере.
Далее – еще одно «католическое» стихотворение.
Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.
Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.
Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознанье
Первородного греха…
Далее – маленькая баллада на сюжет «Спящей красавицы» (она также понравилась Цветаевой). И еще одна баллада, о девушке-ведунье, которая удержала отражение своего неверного любимого в зеркале и теперь мстит ему. Еще несколько стихов, проникнутых мистицизмом. Таков последний выход Черубины на публику.
А далее – подражание «Снежной маске» Блока и, может быть, «Ледяному трилистнику» Анненского.
«Кто ты, Дева?» – Зверь и птица.
«Как зовут тебя?» – Узнай.
Ходит ночью Ледяница,
С нею – белый горностай.
Стихи не удостоились красивых виньеток, но их напечатали и подписаны именем… Елизавета Дмитриева. Черубина выполнила то, ради чего была создана. Пробила дорогу для Лили. И не только для нее. В том же номере напечатали стихи Софии Мстиславской, Софии Дубновой и Марии Пожаровой. Собственно, весь поэтический раздел в этом номере отдали женщинам. Позже Анна Ахматова напишет: «Очевидно, в то время (09–10 гг.) открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим». Но на самом деле, это Черубина открыла двери в новый журнал для всех поэтесс. Не единственную «вакансию», о которой мечтала Ахматова, а именно двери, достаточно широкие, чтобы в них не нужно было толкаться или «работать локтями».
Ищите женщину!
Внезапно от Черубины перестают приходить письма. Зато приходит письмо от ее кузины, которая сообщает что красавица тяжело больна: «…бедняжка молилась всю ночь исступленно, утром нашли ее перед распятьем без чувств, на полу спальни». Больную хотят увезти за границу. Весь «Аполлон» во главе с Маковским встревожен и опечален. Друг Маковского барон Николай Николаевич Врангель [47] Кока Врангель, как зовет его Маковский, которого, кстати, давно все в редакции зовут Мако.
решает дежурить на Варшавском вокзале, провожая все заграничные поезда. «Ее не трудно будет отличить, – уверял он, – если не урод какой-нибудь. А там уже сумею завязать знакомство».
И он в самом деле ездит на вокзал, заметив на второй или на третий день своего дежурства какую-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, «он подскочил к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению родителей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку. Так и уехала Черубина неузнанной».
Маковский чувствует, что серьезно увлечен «далекой принцессой». Волошин поет ей дифирамбы. Но у Черубины находятся и недоброжелатели, точнее (чего и следовало ожидать) – недоброжелательницы. Маковский рассказывает: «Особенно издевалась над ней и ее мистическими стихами (не мистификация ли?) некая поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева (рожденная Васильева [48] Маковский перепутал. Девичья фамилия Елизаветы Ивановны была как раз Дмитриева, фамилию Васильева она приняла позже, уже после расставания с Волошиным, когда вышла замуж за Всеволода Васильева.
), у которой часто собирались к вечернему чаю писатели из „Аполлона“. Она сочиняла очень меткие пародии на Черубину и этими проказами пера выводила из себя поклонников Черубины. У Димитриевой я не бывал и даже не заметил ее среди литературных дам и девиц, посещавших собрания „Аполлона“, но пародии на Черубину этой Черубининой ненавистницы и клеветницы попадались мне на глаза, и я не мог отказать им в остроумии».
Маски сброшены
Понятна обида Волошина за ученицу и любимую женщину, стихи которой не оценили по достоинству. Но только ли в этой обиде было дело? Маковский пишет, что Волошин «вообще обнаружил горячий интерес к „Аполлону“ и ко всему, что лично меня трогало». Но кажется, Волошин очень рано понял, что их с Маковским взгляды на журнал несколько расходятся.
Александр Бенуа писал в программной статье, открывающей первый номер: «Мы так опустились, что просто забыли о гимне. Нам хочется все устроить „по-домашнему“ – следствие глубоко укоренившегося в нас скепсиса. „По-домашнему“ – это значит с ноткой самоиронизирования, со смешком авось что-нибудь выйдет, а не выйдет, так не будет стыдно – первые же трунили. Удобно прятаться за двусмысленной, на всякий случай, усмешкой. Но велика греховность этого раздвоения, этого совмещения и людской суеты, и служения богам. Пора перерасти иронию. И она уж обветшала. В тех, кто определенно почувствовали близость Утешителя, должно быть больше веры, простоты и упований».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: