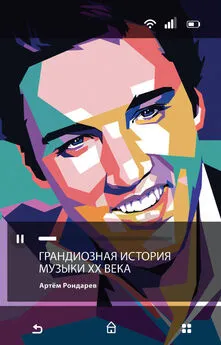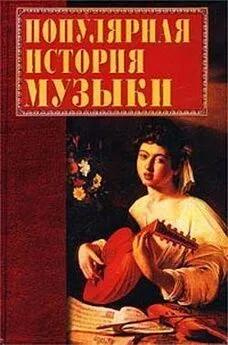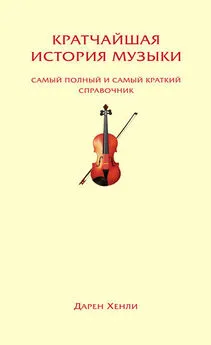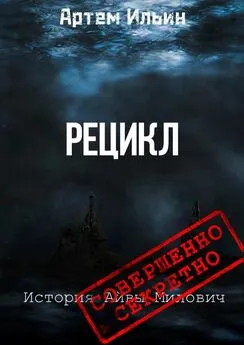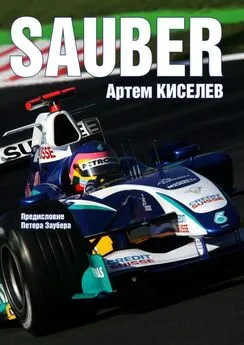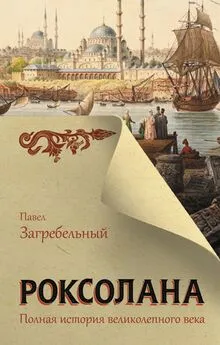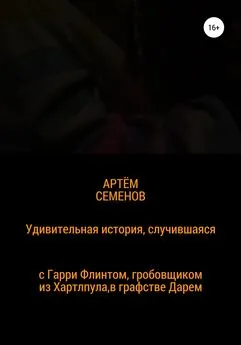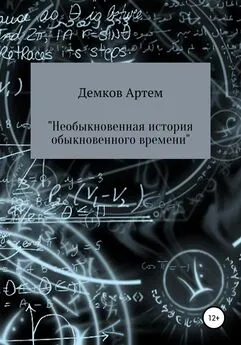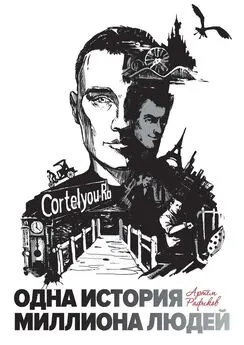Артем Рондарев - Грандиозная история музыки XX века
- Название:Грандиозная история музыки XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент РИПОЛ
- Год:2021
- ISBN:978-5-386-14405-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артем Рондарев - Грандиозная история музыки XX века краткое содержание
В основу настоящей книги положен цикл лекций, прочитанных Артёмом Рондаревым в Высшей школе экономики в рамках курса о современной музыке, где он смог описать весь спектр основных жанров, течений и стилей XX века: от академического авангарда до джаза, рок-н-ролла, хип-хопа и электронной музыки.
Грандиозная история музыки XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, слушатель, став деятельным соучастником создания музыкального произведения, разрушает устоявшуюся схему производства музыки, что приводит к постепенно становящемуся тотальным крушению прежних иерархических систем как в области создания, так и в области рецепции искусства. В этом процессе популярная музыка играет наиболее активную роль, будучи изначально «низкой» вещью, с которой, однако, мало кто захочет расстаться: «Именно здесь искусство подступает к своей подлинной современности, которая состоит просто в освобождении всего того, что присутствовало в искусстве всех времен, но было скрыто целями или объектами (пусть и эстетическими), перекодированиями и аксиоматиками…» [17] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008. С. 583.
. Роль эта далеко не всегда «прогрессивна»: достаточно часто сторонники идеи наличия у поп-музыки эстетической ценности механически переносят на нее требования, предъявляемые «высокому искусству», поддерживая, таким образом, существующую систему символических номинаций «высокого» и «низкого» как нечто «естественное» (это, по сути, является главной задачей музыкальных критиков [18] Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Он же. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 28. «Так, все символические стратегии, посредством которых агенты намереваются учредить свой взгляд на деление социального мира и свое положение в нем, можно расположить между двумя крайними точками: оскорбление, idios logos, когда простое частное лицо стремится внушить свою точку зрения, рискуя получить аналогичный ответ, и официальная номинация – акт символического внушения, который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здравого смысла, поскольку совершается через доверенное лицо государства, обладателя монополии на легитимное символическое насилие»; «…разрешенная точка зрения агента, уполномоченного на персональном уровне, например великого критика, престижного автора предисловий к книгам или признанного автора („Я обвиняю“), и в особенности легитимная точка зрения официального проповедника, уполномоченного лица государства…».
). Элисон Стоун, в частности, выделяет несколько оппозиций, характерных для такого рода номинаций:
1) ранняя, «хорошая» популярная музыка против современной, «плохой» популярной;
2) «хорошая музыка», выражающая эмоции артистов или же их личные воззрения, против «плохой», бездуховной, лишенной вдохновения музыки;
3) «хорошая» музыка, являющаяся отражением художественной цельности исполнителя и его автономии, против «плохой» музыки, которая отражает лишь коммерческий интерес;
4) «хорошая» музыка, которая создает нечто новое, нарушает конвенции и звучит свежо и уникально, против «плохой» музыки, стандартизированной, формульной и рабски следующей конвенциям [19] Stone A. The Value of Popular Music: An Approach from Post-Kantian Aesthetics. L.: Palgrave Macmillan, 2016. P. 9–10
.
Нетрудно заметить, что данный список представляет собой несколько травестированную версию претензий и требований, предъявляемых «подлинному искусству». Популярная музыка, как и мир поп-культуры в целом, вообще очень часто выступают инстанцией тиражирования и подкрепления доминирующих в обществе символических, идеологических и политических значений, как мы еще увидим в дальнейшем [20] Эта ситуация тесно связана с гармшианским и постграмшианским представлением о «здравом смысле», разделяемым массовым потребителем (а поп-культура – это культура массовая по определению), который любую ныне существующую ситуацию склонен рассматривать как ситуацию естественную и «всегда бывшую»; в силу этого привычные эстетические критерии и символические иерархии, которым обучают еще в школе, массовым здравым смыслом рассматриваются как единственно возможные. См. напр.: Грамши А. Тюремные тетради. В 3 т. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. Т. 3. С. 309: «…«здравый смысл» заставляет верить в то, что существующее сегодня существовало всегда…».
. Тем не менее даже в таком конформистском виде подобного рода оппозиции полезны, так как с их помощью в дискуссию о музыке вовлекаются традиционно исключаемые из обсуждения участники-дилетанты, чье мнение в иных случаях девальвируется указанием на их некомпетентность. Однако поп-музыка – вещь, в общем-то, простая, на чем настаивают и профессиональные операторы искусства, то есть музыковеды и музыкальные критики, а стало быть, по силам даже людям, не обладающим специальными знаниями. Так формируется новая дискурсивная практика; так формируется новый, современный взгляд на музыку.
Перемена взгляда на музыку, перемена воззрения на ее функцию всегда сопровождали масштабные сдвиги в музыкальной теории и практике, приводящие к возникновению новых течений, стилей и методологических рамок. Последняя такого рода фундаментальная смена теоретической парадигмы по времени (удобным для нас образом) практически совпала с возникновением средств записи и массового распространения музыки (хотя до какой степени она была мотивирована технологическим скачком – вопрос дискуссионный): речь, разумеется, идет о нашем «в-третьих», то есть о модернизме.
Временные рамки модернизма – тема конфликтная, как и всегда в случаях с большими, плохо поддающимися однозначному определению явлениями. Возникновение музыкального модернизма традиционно связывается с ранними балетами Стравинского [21] См. напр.: Eksteins M . Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. N.Y.; Boston: Mariner Books, 1989. P. 16
и критикой Шенбергом современных ему музыкальных теорий и представлений [22]. Так или иначе во всех этих случаях речь идет о кризисе тональности (подробнее на эту тему см. главу тринадцать), в силу чего представляется логичным включать в эту рамку и более ранние эксперименты с размыванием правил тонального метода изложения материала, характерные для Дебюсси и Сати, тем более что Хосе Ортега-и-Гассет, создавший в 1925 году своего рода (запоздалый) манифест модернизма «Дегуманизация искусства», первым музыкальным модернистом (не используя, впрочем, это слово) полагает именно Дебюсси [23] Ортега-и-Гассет Х . Дегуманизация искусства // Он же. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 240. «Однако на этом пути неизбежной была еще более радикальная реформа. Необходимо было изгнать из музыки личные переживания, очистить ее, довести до образцовой объективности. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только после него стало возможно слушать музыку невозмутимо, не упиваясь и. не рыдая. Все программные изменения, которые произошли в музыке за последние десятилетия, выросли в этом новом, надмирном мире, гениально завоеванном Дебюсси».
. В более раннем своем эссе, Musicalia , он (опять-таки не используя слово «модернизм», а вместо него употребляя свойственное и Адорно, и Карлу Дальхаузу, и многим другим выражение «новая музыка») делает характерное противопоставление между «старыми» и «новыми» композиторами: «Вряд ли бы мне удалось с большей ясностью и отчетливостью сформулировать разницу между романтической и новой музыкой: между Шуманом и Мендельсоном, с одной стороны, и Дебюсси и Стравинским – с другой» [24]. Ему, таким образом, очевидно, что Стравинский и Дебюсси находятся по одну сторону баррикад, по другую сторону которых – романтики; а стало быть, музыка Дебюсси оказывается однозначно вписанной в модернистскую проблематику. Ричард Тарускин свое предисловие к изданию писем Дебюсси прямо называет «Первый модернист» [25] Taruskin R. The First Modernist // The Danger of Music and Other Anti-Utopian Essays. Berkeley; L.A.: University of California Press, 2009. P. 195.
; этих свидетельств должно быть достаточно.
Интервал:
Закладка: