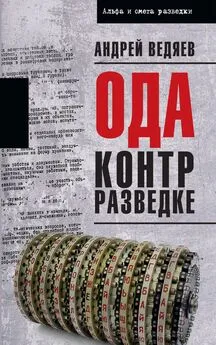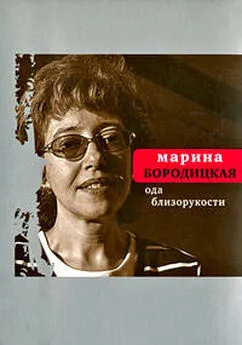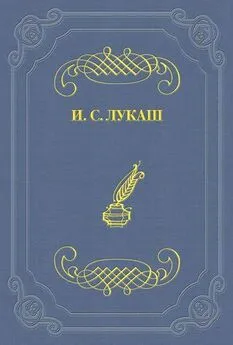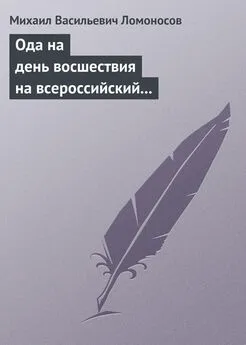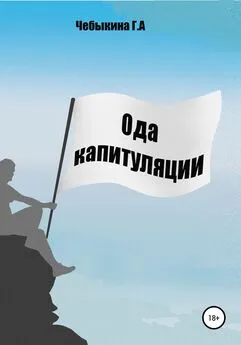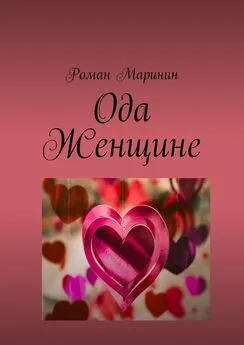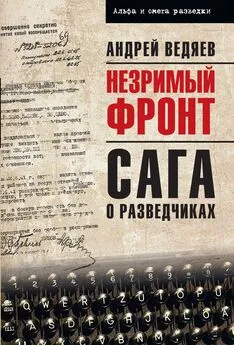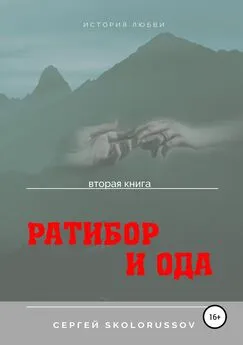Андрей Ведяев - Ода контрразведке
- Название:Ода контрразведке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8654-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ведяев - Ода контрразведке краткое содержание
Ода контрразведке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А вот что рассказала Ариадна Готфридовна Кондиайн, невестка Александра Кондиайна, по профессии геолог: «В 1946 г. я работала в геологической экспедиции в районе горы Алуайв, что возвышается над Сейд-озером. Я тогда была первый год замужем за Олегом Александровичем и еще ничего не знала о работах его отца и А.В. Барченко. К озеру я не спускалась, хотя оно было окружено ореолом таинственности. И действительно, сотрудники нашей экспедиции уже после моего отъезда в Ленинград дважды пускались в плаванье на лодках по этому озеру, и оба раза это кончалось трагедией – погибло 8 человек. Кроме того, несколько человек погибло под обвалом в ущелье, ведущем к Сейд-озеру. Район Ловозера и Сейд-озера весьма интересен с геологической точки зрения. В частности, он характеризуется аномальным интенсивным тепловым потоком из недр Земли и распространением необычных горных пород. Интересен он и в геоморфологическом и в климатическом отношениях. С ним связано много легенд, а также сведений о том, что Сейд-озеро и его окрестности опасны для неискушенных посетителей».
Отправляясь в Ловозеро в 1976 году, мы, конечно, и не догадывались о подстерегающих нас опасностях этой северной Шамбалы. Целью нашей экспедиции были Кейвы, где среди древних кианитовых сланцев находятся лучшие в мире месторождения граната-альмандина и амазонита. Но для этого нам нужно было пересечь Ловозеро, а это настоящее море площадью 200 кв. км, окруженное каменистыми сопками. Небо над ним всегда свинцовое, а вода, даже летом – ледяная, причем волны достигают внушительных размеров.
Добравшись поездом до станции Оленья, а затем автобусом через Ревду до Ловозера, мы пешком дошли до расположенной в 7 км на берегу геофизической станции, показали наши рекомендательные письма и получили совет обратиться к биологам из Петрозаводска, которые базировались неподалеку и постоянно выходили «в море» на своей моторной лодке. Ребята сразу согласились нам помочь, и на следующий день мы четверо и двое биологов, как аргонавты в старину, погрузились в лодку и отправились за своим «золотым руном» и приключениями – которые не заставили себя долго ждать.
Как и в случае Барченко, «едва они отплыли от берега, как небо неожиданно затянули черные тучи. Налетел ураган, который мгновенно сломал мачту и едва не перевернул лодку. В конце концов путешественников прибило к крошечному, совершенно голому островку, где они, дрожа от холода, и заночевали. А утром уже на веслах кое-как дотащились до Ловозерска. Роговой остров действительно оказался заколдованным!»
Разница лишь в том, что у нас сломалась не мачта, а полетела шпонка лодочного мотора. Кое-как мы выгребли на веслах и пристали к такому же крохотному островку. Насквозь мокрые, вытащили негнущимися пальцами из рюкзака заветную флягу со спиртом. Разожгли костер, починили мотор – но сильнейший шторм и встречное течение еще несколько дней не позволяли нам продолжить плавание. Как у Александра Городницкого:
У геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши, ты погоди немного,
И черных платьев не носи, и частых слез не лей…
Дождавшись наконец хорошей погоды, мы преодолели остаток пути, вошли в устье Курги и встали лагерем на высоком берегу залива, разбив палатку около одной из невысоких елей. Поужинав и распрощавшись с биологами, мы достали спальники и за рассказами баек не заметили, как заснули.
Первое, что я увидел утром, выбравшись из палатки, была фигура Шуры Тихомирова, удивленно рассматривавшего свою рубаху, которую он вечером перед сном аккуратно развесил на одной из растяжек, привязанных к ёлке. Рубаха была разорвана надвое и болталась на одном рукаве. Все в изумлении застыли, не в силах вымолвить ни слова. Первая мысль – медведь. Но ведь он должен был бы сдернуть рубаху – да и следов на камнях, поросших ягелем, не было никаких.
Смутная догадка забрезжила у меня в голове лишь в самом конце нашего маршрута. Когда мы возвращались из Кейв, на одном из порогов в районе Ефим-озера мы потеряли остатки провианта, и дело могло обернуться плохо, если бы не охотники из числа местных лопарей, которых мы встретили вблизи Ловозера. Они забрали нас на двух моторных лодках, и одна из них, в которой находились я и Лёха Костин, причалила к небольшому острову, уже покрытому снегом, в центре которого мы увидели чум (на языке саамов вежа ). Как выяснилось, в нем находился родственник наших спутников, по профессии шаман, или нойда .
Внутри чума было довольно темно. Посреди него горел очаг, около которого ползала какая-то старуха и помешивала в котлах, висящих на крючьях разной длины. Перевешивая котлы с крюка на крюк, она тем самым регулировала температуру приготовления. Нойда указал нам место на шкуре напротив себя и закурил трубку. При этом он смотрел мне прямо в глаза и одновременно как бы мимо меня, обозначая тем самым присутствие еще каких-то духовных субстанций, посредством которых видимо и происходили гадания и исцеления. Голос у нойды был высокий, а речь довольно отрывистая, так что не все слова можно было понять. Он сразу стал сватать меня к какой-то своей родственнице. «Получишь оленей в приданое, – пообещал он. – Какой там у вас главный улица? Горький? Вот проедешь по улица Горький на оленях – все будут тебе завидовать!»
Самое интересное, что так оно и вышло. Через два года я познакомился с аспиранткой нашей кафедры Ирой Шолохневой, которая была из Мончегорска – до Ловозера рукой подать. Причем до Мончегорска, как и до Ловозера, можно было добраться только со станции Оленья. В 1979 году мы поженились и проехали по улице Горького в пимах-лопарках из настоящего северного оленя. Так что предсказание шамана, хотя и не буквально, но всё-таки сбылось.
Прощаясь с нами, он как-то странно посмотрел на нас и сказал: «Вас ОН только предупредил». Речь безусловно шла о разорванной рубашке Шуры. Но кого нойда имел в виду? Что это было за предупреждение? То, что несчастные случаи на Кольском происходят каждый год, мы знали. Но лишь гораздо позднее стало известно, что незадолго до нас, в январе 1973 года, в Ловозерских тундрах исчезла целая группа из Куйбышева в составе десяти человек. Впоследствии всех их нашли в разных местах Чивруайского перевала, с искаженными лицами и без глаз, что дало повод назвать эту трагедию вторым перевалом Дятлова.
О том, что произошло на перевале Дятлова в январе – феврале 1959 года, я знал не понаслышке. Дело в том, что мой отец родом как раз из тех мест. Он родился в Новой Ляле, что всего в 180 км от Ивделя, где разворачивались основные события по расследованию этой загадочной истории. «В материалах расследования упоминаются личные дневники Евгения Масленникова – одного из руководителей поисковой операции, – рассказывает мой отец. – Существует мнение, что в этих дневниках содержится чуть ли не сама тайна трагедии. Но эти дневники похоже толком никто не видел. Евгения Масленникова я знал лично, когда работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, где в то время он был главным механиком завода. Масленников был очень активным, умным, опытным и осторожным человеком. Будучи одним из немногих мастеров спорта по туризму в СССР, он возглавлял туризм и на заводе, и в Свердловске. Что касается того, что в дневниках Масленникова описана причина случившейся трагедии группы Дятлова. Мне вообще не верится, что у Масленникова были такого содержания дневники. Конечно, он был умным и весьма опытным в туризме человеком-следопытом, разбирался во всех тонкостях этого дела. Но в принятии решений Евгений Масленников был человеком осторожным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: