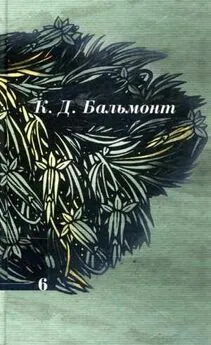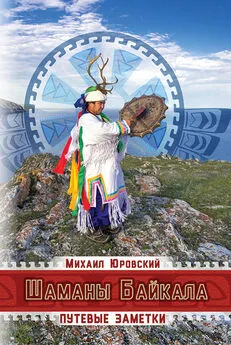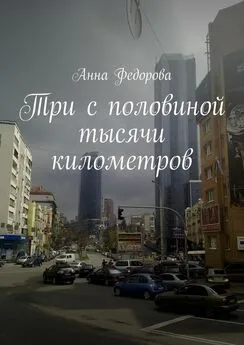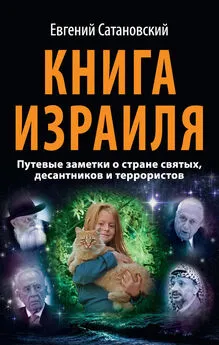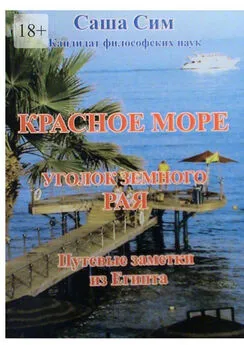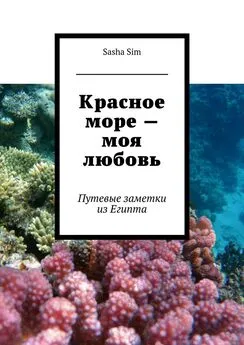Павел Куянцев - Я бы снова выбрал море… [Очерки. Путевые заметки. Воспоминания. Интервью]
- Название:Я бы снова выбрал море… [Очерки. Путевые заметки. Воспоминания. Интервью]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИПК «Дюма»
- Год:1998
- Город:Владивосток
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Куянцев - Я бы снова выбрал море… [Очерки. Путевые заметки. Воспоминания. Интервью] краткое содержание
Я бы снова выбрал море… [Очерки. Путевые заметки. Воспоминания. Интервью] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А теперь я вам покажу, чем мы занимались в Академии художеств.
Он достал из-под дивана большой чемодан и высыпал его содержимое на ковер. Это были небольшие листки ватмана с акварельными этюдами. Чего там только не было: белье на веревке, бутылка вина и хлеб, цветы и всякая всячина.
— Вот этим и занимайтесь. Учитесь у природы. Не копируйте. Делайте хуже, но свое.
Затем он провел меня в свою мастерскую. Там висели на стенах и стояли на мольбертах его замечательные картины на разные темы. Особенно мне запомнилась одна: Ледокол «Красин» в шторм. Была и символика: жертвенник, атрибуты самодержавия на свалке истории, всенощная в соборе.
Николай Максимович сказал с досадой:
— Вот море у меня плохо получается. Всю жизнь плаваю, а передать не умею. Вы только начинаете, а оно у вас живое.
Я расстался с ним, полный надежд. И всю жизнь помнил его наставления.
Не знал, что больше его не увижу. Надвигался тридцать восьмой год…
И такие были помполиты
С первым начальником политотдела Дальневосточного пароходства Сулимовым прибыла и первая группа помполитов. Трое ничем особенно не отличались. Но Тимофеев был статен и красив. Говорили, что он имеет именную саблю от Семена Буденного. Его послали на наш «Свирьстрой».
Мы пошли круговым рейсом по Охотскому морю. Сразу заметили, что новый помполит тщательно изучает нас и наши условия работы. Понравился он и нашему капитану Павлу Петровичу Белорусову. Мы пришли во Владивосток и стали под погрузку консервов на Англию, и наши ретивые кадровики, имея в резерве своих так называемых перегонщиков, решили сменить весь экипаж, за исключением капитана. Эта коварная затея стала известна нашему помполиту, он пошел к Сулимову и добился, чтобы оставили весь экипаж, и затея «кадров» не удалась. Так мы и узнали, чего стоит наш помполит.
Алексей Васильевич и далее показал себя. Тогда мы еще не догадывались, что он будет после этого рейса назначен начальником Дальневосточного пароходства.
Наше судно прошло капитальный ремонт в Керчи и пришло домой.
Тут-то и начались мои испытания. Шел 38-й год, я стал сыном «врага народа», и меня сняли со «Смоленска». Я пришел к Алексею Васильевичу и доложил ему об этом. Он сказал:
— Не беда, пойдешь капитаном на «Андреев».
Меня, двадцатишестилетнего, послали на это судно сменить Артюха. Я проплавал год, и тут снова пришла беда. Алексея Васильевича сняли с должности: не хотел выполнять нелепые распоряжения крайкома. Он уехал в речное пароходство в Новосибирск. Меня же послали на пароход «Луначарский» плавать по Курилам, и затем – на «Дмитрий Лаптев» Сахалинского пароходства. Я оказался в группе капитанов, с которыми что хотели, то и делали. На каждого было возбуждено какое-нибудь дело, нам не давали зарплату. Но русские люди добрые, каждого из нас кто-то приютил.
Когда вернулся начальник Сахалинского пароходства Коробцов, человек порядочный, он сразу отменил приказ Сафарова, вызвал нас к себе и сказал:
— Вы сами понимаете, я вас держать как капитанов не могу. Могу вам сделать перекомандировку, кто куда захочет.
Один Рябоконь сделал умный шаг — он перекомандирован был в Новосибирск, где работал Тимофеев. Остальные ушли к рыбникам, а я попросил перекомандировать меня во Владивосток в Севморпуть под начало Готского – выдающегося капитана, и Колотова, начальника Севморпути. Но и тут я не удержался. Колотов вызвал меня и сказал, что приказано меня выгнать. И я оказался вольным слушателем, уничтожая девиацию на малых рыболовных судах. Меня часто вызывали в милицию. И однажды я узнал, что мой отец расстрелян, и понял, что во Владивостоке мне оставаться нельзя.
Придя из милиции, я собрал свои акварели и продал их Сушкову в музей, получив за них 800 рублей. В тот же вечер с чемоданом поднялся на Орлиное гнездо, простился с родным городом, сел на вечерний поезд до Новосибирска и сказал жене, если будет повестка в милицию — я уехал в неизвестном направлении.
Через несколько суток в Новосибирске я обратился к Алексею Васильевичу за помощью. И стал дублером капитана «Козьмы Минина». Весной из КГБ поинтересовались, что я здесь делаю, но Алексей Васильевич и тут выручил. Сказал, что я у него прохожу стажировку.
Следующим летом я встретил Алексея Васильевича в городе, а он и сказал:
— Вот как жизнь крутит; министр Зосима Шашков посылает меня снова к вам, во Владивосток. Приеду, разберусь и пришлю ответ.
Но не пришлось Алексею Васильевичу быть еще раз начальником Дальневосточного пароходства: он заболел и умер в кремлевской больнице.
Я завербовался к рыбникам, штамп в паспорте: житель Приморского края. Потом рыбники сделали мне перекомандировку в ДВМП. Послали меня на «Аскольд» к балтийскому капитану — так я оказался снова в моем пароходстве. От судьбы не уйдешь.
Солнечный круг Арсеньева
Если вам скажут о высокомерии Владимира Клавдиевича Арсеньева, не верьте. В обращении он был прост, доброжелателен, приветлив.
Арсеньев — настоящий путешественник, человек с сильной волей. Живые глаза, глубоко сидящие, притягивали к себе внимание, и мы, восемнадцать юношей, слушали его, как завороженные: рассказчик он был изумительный. Такие люди не бывают высокомерны; высокомерие и ум – несовместимы.
В 1928 году во Владивостоке не было специальных учебных заведений по рыбному промыслу, поэтому в программе мореходки было всё, что могли встретить штурманы торгового флота в работе на море.
Арсеньев преподавал нам ихтиологию и все, что относится к рыбному хозяйству. Предмет он давал просто, интересно, а слова «радиолярия», «диатомея», «глобигерин» звучали, как что-то из сказочного мира.
Когда материал по программе заканчивался, а до конца урока оставалось еще минут десять, он рассказывал нам какие-нибудь занятные истории. О том, что все в природе взаимосвязано. Например, что общего между старыми девами и клевером. Однажды швейцарцы заметили, что клевер начал особенно пышно цвести. Это произошло оттого, что исчезли шмели, которые гнездились в почве. А шмели исчезли потому, что их гнезда разрушали фокстерьеры, которых привозили старые девы по весне в Швейцарию.
Арсеньев говорил: природе все равно, что сто тысяч человек, что сто тысяч тараканов. Человек вовсе не царь природы, как считают некоторые умники.
Рассказывал он о своих встречах со староверами на приморском побережье:
— Стою как-то на берегу у мыса Олимпиады с пассажным инструментом и жду, когда солнце покажет полдень. Подходит знакомый старовер из деревни Кузнецово (они все меня знали) и спрашивает: «Что ты тут, Владимир Клавдиевич, делаешь?» Ну, как ему объяснить? Говорю: «Тут через вашу деревню проходит круг. А он: «Да ну? Где? Покажи». — «На карте, — говорю, — вот жду, когда солнце покажет полдень, и этот круг нанесу на карту поточнее».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Павел Куянцев - Я бы снова выбрал море… [Очерки. Путевые заметки. Воспоминания. Интервью]](/books/1076524/pavel-kuyancev-ya-by-snova-vybral-more-ocherki-put.webp)