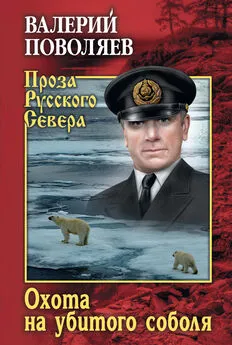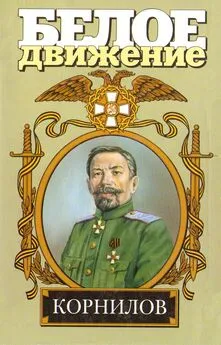Валерий Поволяев - Охота на убитого соболя
- Название:Охота на убитого соболя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8255-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Поволяев - Охота на убитого соболя краткое содержание
Произведения, включенные в книгу известного автора, лауреата многих литературных премий, рассказывают о наших современниках, живущих и работающих на краю земли Российской.
Охота на убитого соболя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Донцов, несмотря на свой секущий, пробивающий чуть ли не насквозь взгляд, был человеком спокойным, немногословным, интеллигентным – поклонялся искусству, любил книги.
У него в каюте разве что только рояля не было. А так – книги, томов двести, живопись на стенах развешена – несколько добротных этюдов, в основном пейзажи, и театральные плакаты.
Снялись.
Пошли.
Когда мимо поплыли лобастые заснеженные сопки, с макушек голые, а сбоку в редкой хвойной растительности, напоминающие плохо выбритые щеки неряшливого толстяка, печальное тепло возникло в горле, вызвало тоску – всегда так бывает: сидя на берегу, мечтаешь о море, о том желанном моменте, когда заскрипит соленая якорная цепь, будет отдан последний конец, и землю начнет понемногу вытеснять вода, а в море, глядя на тоненькую прерывистую строчку удаляющегося берега, обязательно думаешь о земле и тоскуешь по ней. Словно бы чувствуешь, что рядом ходит беда, заглядывает тебе в глаза, пристально рассматривает лицо, словно бы старается запомнить. И больно делается от этого ощущения, что-то гулкое начинает колотиться в висках, под ложечкой режет от странного страшноватого осознания того, что беда видит тебя, а ты ее нет.
Почему-то в момент отхода удаляются все звуки, они словно бы растворяются в воздухе – только что были и уже их нет. Ни писка морзянки, ни одышливого простуженного сипения радиотелефонов, ни вкрадчивого скрипа пишущих устройств, таинственного могильного треска круглых стеклянных экранов радарных установок, ни звонкого голоса улыбчивого лоцмана, отдающего команды, ни далекого бормотанья мощных двигателей, сотрясающих корпус судна от киля до клотика – от приглубой нижней линии, разваливающей водную сердцевину пополам до самой верхней точки – мачтовой макушки, все это истаивает, исчезает, остается одна печальная, наводящая на думы тишь, этакий бесшумный «золотой дождь», но не тот, что приносит неожиданное богатство, а другой, заставляющий мыслить, тосковать, сжиматься в комок, удерживая сердце в груди, которое колотится обреченно, раненно, норовя оборваться и навсегда затихнуть. Да что сердце!
Тишь стоит безмерная, влажная, тусклая, и безмолвно отступают назад щетинистые небритые берега, спичечная редина тощих лесков, гнездящихся в распадках, стаи уток, оценивающе поглядывающих на проходящие суда: а не выкинут ли оттуда чего-нибудь съестного? Рябые пухлотелые гаги даже не поднимаются с воды, когда пароход накатывает на них, лишь отталкиваются от ряби и ловко лавируют среди круглых белесовато-темных, словно бы отлитых из пластмассы блинов, отплывают в сторону, потом долго равнодушно покачиваются на длинных усах-волнах, оставляемых судном. Чирки, те – пошустрее, подружелюбнее.
Для того чтобы ощутить настоящую, пробивающую буквально насквозь слезную тоску по берегу, этот берег надо обязательно как-нибудь покинуть, уплыть в лодке далеко в море, там, в безбрежной пустоте, опустить весла, застыть в волнах и задать самому себе вопрос: а что значит для тебя земля? Если ответ будет найден сразу – значит, ничего ты, человек, не понял, такие ответы не лежат на поверхности. Чтобы ответить на этот вопрос, надо немало помучиться, изойти потом, накричаться вволю в одиночестве, перегореть. Чтобы судить о земле, надо знать, чем она дышит, на чем стоит, знать ее беды и счастье, мысли, волнения, заботы, ощутить себя частью ее самой. А ведь это так и есть – все мы рождены землей, все мы в нее и уйдем. И хорошо бывает жить с сердцем, в котором имеется ощущение этой земли, тверди, отцовской могилы и дома, в котором человек был рожден, – это ощущение помогает выстаивать, не заноситься, когда вдруг чей-то указующий перст поднимает высоко-высоко, всякую минуту помнить, что чем выше ты заберешься, тем больнее бывает падать, помогает всегда и всюду оставаться самим собой. Тот, кто забывает о своей земле, – очень быстро обваривается, слепнет.
– Ну что, моряки, кажется, отчалили? – наконец подал голос Донцов, хотя отчалили бог знает когда – атомоход уже проходил док, в котором ремонтировался старый заслуженный ледокол «Красин».
– Так точно, отчалили, Николай Иванович, – излишне вежливо, всплывая на поверхность самого себя, ответил Суханов.
– Якоря как, моряки?
– Сушатся оба.
Донцов сунул в рот холодную трубку, помял ее желтыми крепкими зубами, потом набил душистым «кепстеном», который Донцову привозили друзья-капитаны из «плаваний налево», но раскуривать не стал, сощурил свои неземные яростные глаза, что по праву должны были бы достаться человеку, способному сжечь себя в печи, но никак не спокойному тихому Донцову, вгляделся в плоское полупрозрачное облачко, опустившееся на воду впереди. Пожевал задумчиво трубку, молвил будто бы для самого себя:
– Заряд идет, моряки.
Раз идет заряд – значит, пароход залепит снегом, извозюкает, вся праздничность будет скомкана, тоска, начавшая уже свертываться под сердцем в клубок, будто капризный котенок, вновь распрямит спину, вытянет когтистые лапы и начнет царапаться. Донцов втянул в себя ароматный дух табака, выпустил его сквозь ноздри, словно дым, – у капитана были свои думы, свои заботы. Как и свои женщины: одних он вспоминал с нежностью и сладким щемлением, других – словно нечто пригрезившееся, вызывающее невольное удивление, что-то странное, легкое, схожее с неожиданной печалью, либо с раздражением и ломотой в висках, капитану все земное не было чуждо. Худое красивое лицо его вытянулось, загорелые щеки обвяли.
Посмотрел в сторону, на док, в котором ремонтировался знаменитый старикан «Красин», славно поработавший когда-то при спасении челюскинцев. Трубу старику подновили, сделали яркой, в три широких полосы, выпуклый, словно бы вырезанный штихелем скульптора корпус покрасили в черный траурный цвет, будто собрались провожать в последний поход. Но до последнего похода старику было далеко – жить да жить ледоколу: две зимовки он провел у геологов на ЗеФеИ – земле Франца-Иосифа, где служил людям, как самое банальное общежитие. Каюты на «Красине» просторные, с высокими потолками, обшитые деревом, украшенные бронзой, уютные – не каюты, а настоящие хоромы, ни один мороз такое жилье не берет, в бывшей молельне геологи устроили баню-сухопарку, ввели «чистые» дни.
Ходовая часть на «Красине» исправная, рубка в порядке, управление работало, из машин оставили только одну, все остальное, насколько было известно Суханову, вытащили, фундамент залили цементом, чтобы не было течи, но и одной машины старику достаточно – дотелепает до ЗеФеИ, а там снова приткнется к берегу. А вот родное имя у старика, можно сказать, отняли, отдали новому ледоколу, мощному, современному, но потом кто-то одумался – нельзя же все-таки обижать музейный экспонат, у которого мировая слава, и еще неизвестно, как будет работать новый ледокол со старым именем, поэтому дедушке в паспорте прописали: «Леонид Красин». Хотя чем отличается «Леонид Красин» от «Леонида Борисовича Красина» или просто «Красина» – никому не известно. Впрочем, для береговой бухгалтерии различие, наверное, все-таки существует.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: