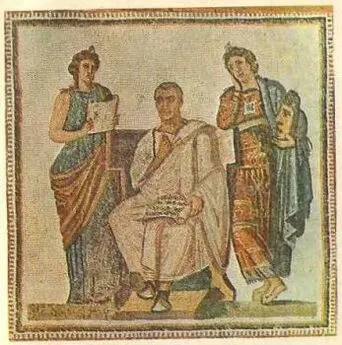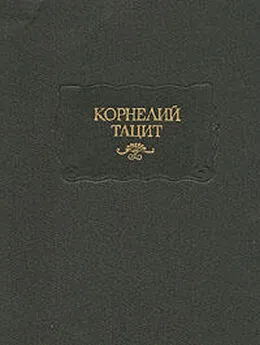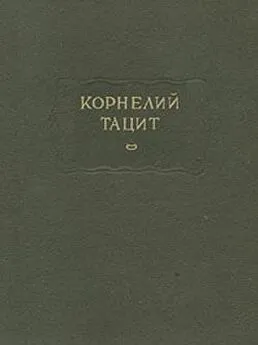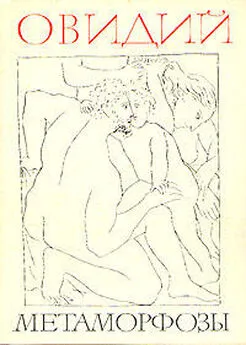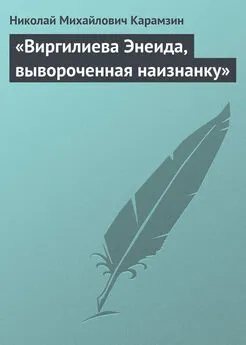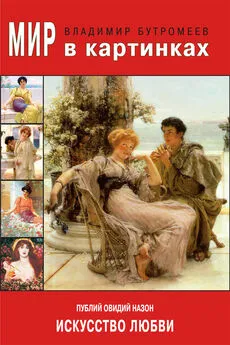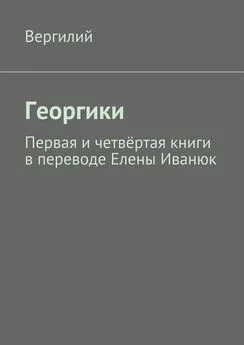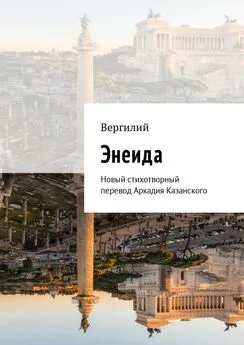Публий Вергилий - Буколики. Георгики. Энеида
- Название:Буколики. Георгики. Энеида
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Публий Вергилий - Буколики. Георгики. Энеида краткое содержание
В книгу великого римского поэта Публия Вергилия Марона (70–19 гг. до н. э.) вошли его известные произведения: сборник пастушеских стихов «Буколики», дидактическая поэма «Георгики», эпос «Энеида».
В настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы» «Буколики» и «Георгики» публикуются в переводе С. Шервинского, коренным образом переработанном для этого издания; перевод «Энеиды», выполненный С. Ошеровым в 1954–1969 годах, публикуется впервые.
Вступительная статья С. Шервинского
Примечания Н. Старостиной
Иллюстрации Д. Бисти.
Буколики. Георгики. Энеида - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При жизни Вергилий был очень знаменит. Есть сведения, что, когда он входил в театр читать свои стихи, граждане оказывали ему почести, подобавшие Августу. Уже много лет спустя после кончины поэта день его смерти, иды октября, считался священным.
Вергилий не потерял своего авторитета и в последующие века, когда литературные вкусы стали совсем иными, — но слава его пошла по двум весьма различным руслам. Она суживалась в тех кругах, которые могли оценить его поэтические достоинства, и расширялась в народной массе, которая знакомилась, однако, лишь с отрывками из произведений Вергилия, приводимыми в качестве грамматических и стилистических примеров в школах, или же вовсе его не читала, зато много слышала о нем и постепенно создавала свой, народный образ поэта, доверяя ходячей молве. Обе эти славы переступили порог, отделявший рабовладельческий мир от феодального, языческий от христианского. Низовая слава Вергилия представляет явление уникальное и в высшей степени любопытное.
Непонятная в своем пророческом стиле эклога IV «Буколик», подробно изложенная в эклоге VII церемония волшебства, неоднократное упоминание Кумской сивиллы и схождения в загробный мир, описанный с такой ощутимой конкретностью, — все это овеяло образ Вергилия таинственностью, перед которой опасливо трепетали и благоговейно изумлялись. Уже начиная с времени самого Августа, более чем на тридцать лет пережившего своего поэта, Вергилий стал приобретать легендарные черты, все более отдалявшие подлинный его облик. Суеверному простолюдину он стал представляться чародеем, описанные им заклинания или посещения обители умерших принимались за личный опыт. Всегда отличавшийся примитивным суеверием Неаполь особенно усердствовал в нагромождении на память Вергилия умственного хлама. В средневековой «Партенопейской хронике» читаем, что Вергилий, как добрый волшебник, оказал неаполитанцам ряд благодеяний: уничтожил мух, разносивших болезни, изгнал цикад, мешавших людям спать своим «грубым пением»), устроил купанья в Пайях, увеличил число рыбы в мелком Неаполитанском заливе и т. д. Автор «Хроники» видит в этом «милость божию», а вместе с тем убежден, что Вергилий — чернокнижник, научившийся всяким сатанинским делам у Хирона, — тут неаполитанцы путали Гераклова наставника, кентавра Хирона, с реальным преподавателем «эпикурова сада», Сироном. Век за веком Вергилий, забытый толпою как поэт, продолжал считаться «злодеем, поклонником демонов», ничего не умевшим делать без помощи нечистой силы. Такое мракобесие в отношении к Вергилию было устойчиво, в XIV столетии Боккаччо еще верил некоторым неаполитанским нелепостям.
Не угасла и идея римского миродержавства. Рим был на низшем уровне падения, но обаяние вечного города оставалось столь могучим, что империя, образованная наследниками Карла Великого, с гордостью стала именоваться «Священной Римской империей германской нации». Рим превратился в духовный центр христианства; папа и император встали друг против друга в борьбе за власть.
Между тем рукописи творений Вергилия переписывались в монастырях, оставаясь достоянием лишь избранных умов. Мыслители продолжали углубляться в толкование поэта, привлеченные его мессианскими и пророческими высказываниями. Гению Данте суждено было перекинуть мост между античностью и миром молодой, обновляющейся Европы. «Анима кортэзэ» мантуанского лебедя нашла родственную душу в авторе «Божественной комедии». Вергилий стал провожатым Данте по загробному миру. Так, по выходе из легенд суеверья, новая Европа создала свой миф о Вергилии.
С. Шервинский
Буколики
Перевод С. Шервинского
ЭКЛОГА I [2] В основе эклоги лежит действительный факт биографии Вергилия, о котором говорит еще античный комментатор «Буколик» Сервий: «…после того как был убит Цезарь… Август начал гражданскую войну против Антония… Одержав победу, он отдал своим воинам поля кремонцев, которые были на¬строены к нему враждебно. Этих полей оказалось недостаточно, и он приказал распределить также и землю мантуапцев, не в виде наказания, а потому, что они жили по соседству… Вергилий, лишившись земельного участка, прибыл в Рим… ему в виде исключения возвратили поле». Эклога адресована Августу, хотя прямо он ни разу не назван. В Титире можно видеть самого Вергилия.
Мелибей
Титир, ты, лежа в тени широковетвистого бука,
Новый пастуший напев сочиняешь на тонкой свирели, —
Мы же родные края покидаем и милые пашни,
Мы из отчизны бежим, — ты же учишь леса, прохлаждаясь,
5 Имени вторить своей красавицы Амариллиды.
Титир
О Мелибей, нам бог спокойствие это доставил [3] Стих 6. …нам бог спокойствие это доставил… — Имеется в виду Октавиан Август и его милость по отношению к Вергилию — Титиру. К этому времени Октавиан начал принимать божеские почести и называться богом, — в Пергаме и Никомедии уже были посвященные ему храмы, хотя официальный декрет сената об обожествлении был вынесен после его смерти (14 г. до н. э.).
—
Ибо он бог для меня, и навек, — алтарь его часто
Кровью будет поить ягненок из наших овчарен.
Он и коровам моим пастись, как видишь, позволил,
10 И самому мне играть, что хочу, на сельской тростинке.
Мелибей
Нет, не завидую я, скорей удивляюсь: такая
Смута повсюду в полях. Вот и сам увожу я в печали
Коз моих вдаль, и одна еле-еле бредет уже, Титир.
В частом орешнике здесь она только что скинула двойню,
15 Стада надежду, и — ах! — на голом оставила камне.
Помнится, эту беду — когда бы я бы поумнее! —
Мне предвещали не раз дубы, пораженные небом. [4] Стих 17. …мне предвещали не раз дубы, пораженные небом. — Удар молнии в дерево считался дурным предзнаменованием; пораженная молнией олива предвещала неурожай, дуб — изгнание.
Да, но кто же тот бог, однако, мне, Титир, поведай.
Титир
Глупому, думалось мне, что город, зовущийся Римом,
20 С нашим схож, Мелибей, куда — пастухи — мы обычно
Из году в год продавать ягнят народившихся носим.
Знал я, что так на собак похожи щенки, а козлята
На матерей, привык, что с большим меньшее схоже.
Но меж других городов он так головою вознесся,
25 Как над ползучей лозой возносятся ввысь кипарисы.
Мелибей
Рим-то тебе увидать что было причиной?
Титир
Свобода. [5] Стих 26. Свобода — то есть выкуп из рабства; раб-пастух добился этого от своего живущего в Риме господина уже стариком.
Поздно, но все ж на беспечность мою она обратила
Взор, когда борода уж белее при стрижке спадала.
Все— таки взор обратила ко мне, явилась, как только,
30 Амариллидой пленен, расстался я с Галатеей.
Ибо, пока, признаюсь, Галатея была мне подругой,
Не было ни на свободу надежд, ни на долю дохода.
Хоть и немало тельцов к алтарям отправляли загоны,
Мы хоть и сочный творог для бездушного города жали,
35 С полной пригоршней монет не случалось домой воротиться.
Интервал:
Закладка: