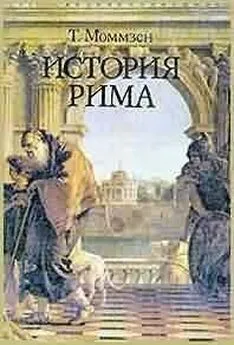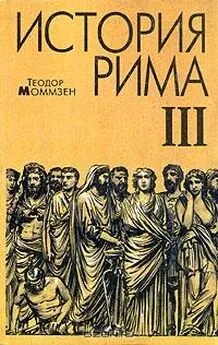Тит Ливий - История Рима от основания Города
- Название:История Рима от основания Города
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тит Ливий - История Рима от основания Города краткое содержание
Тит Ливий (Titus Livius, 59 до н. э., Патавий, ныне Падуя – 17 н.э., там же) – один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории от основания города» («Ab urbe condita»), несохранившихся историко-философских диалогов и риторического произведения эпистолярной формы к сыну.
Oсновоположник так называемой альтернативной истории, описав возможную борьбу Рима с Александром Македонским если последний прожил бы дольше. Образцами совершенного стиля Ливий называл Демосфена и Цицерона.
Ливий происходил из состоятельной семьи, в ранней молодости приехал в Рим, где получил хорошее образование, после чего занялся философией, историей и риторикой. Хотя близкие отношения связывали его с Августом, Ливий не принимал деятельного участия в политической жизни. После 27 до н. э. Ливий начал работать над фундаментальной работой по истории Рима в 142 книгах, в которой верил в нравственные ценности и в которых видел залог возрождения Рима и в то же время, разделяя взгляды стоиков, верил в фатум. В сохранившихся книгах помещено около 40 речей исторических и полулегендарных фигур. Хронологически ливиев стиль представляет собой промежуточный этап между классическим и так называемой латынью серебряного века Империи. О Ливии с уважением отзывались оба Сенеки, Квинтиллиан и Тацит, а труды использовали Валерий Максим, Анней Флор, Лукан и Силий Италик.
Николо Макиавелли написал «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».
Единственный сохранившийся труд Тита Ливия «История Рима от основания города» охватывает события римской истории от легендарных её истоков до гражданских войн и установления империи, т. е. эпохи современником которой был автор.
Из 142 книг до нашего времени дошло 35 книг – с первой по десятую и с двадцать первой по сорок пятую, освещающие события до 293 и с 219 до 167 г. до н. э.О содержании других книг известное представление дают созданные ещё в древности краткие их изложения – «периохи», или «эпитомы». Перевод их также включен в настоящее издание.
Настоящее издание подготовлено коллективом переводчиков – филологов-классиков и историков античности.
Содержит обширную пояснительную статью Г. С. Кнабе.
История Рима от основания Города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В римском – как, впрочем, и в греческом – обществе человек был включен в две системы связей: в систему города-государства, где отношения граждан действительно регулировались законами, и в систему социальных микрообщностей, где отношения регулировались не законами, а находившимися с ними в сложных, противоречивых отношениях традицией и личными зависимостями 73. Социальными микрообщностями, т.е. своеобразными малыми контактными группами, были, например, местная община, из которой человек вышел и на поддержку которой он опирался всю жизнь; семья, члены которой ориентировались в своем общественном поведении на знатных и богатых покровителей и в свою очередь оказывали покровительство менее знатным и богатым семьям, от них зависевшим; дружеский кружок, спаянный не столько личной приязнью, сколько общностью деловых и политических интересов; полностью неформальное сообщество, которое в Риме называлось «партией» (partes) и объединяло людей, преследовавших одни и те же непосредственные политические цели; наконец, коллегия – профессиональная, жреческая или посвященная культу неофициального божества, но во всех случаях предполагавшая регулярные собрания, совместные церемонии и коллективные трапезы, т.е. неформальное общение и солидарность членов.
В реальной жизни обе системы, сохраняя свои различия, постоянно взаимодействовали и проникали друг в друга. Это приводило, с одной стороны, к тому, что государственная сфера никогда не была полностью отчуждена от повседневного существования людей, от личных отношений, от семьи и кружка, реализовалась во внятных каждому непосредственно человеческих формах. Но с другой стороны, всякое политическое или даже граждански-правовое дело в этих условиях могло быть успешным только в том случае, если оно лично кого-то устраивало, приносило выгоду семье или клану, и любая успешная карьера, исход магистратских выборов зависели от этого. Разветвленной сетью из поколения в поколение складывавшихся клиентельных связей, тысячами людей, включенных в эти связи и обеспечивавших в народном собрании принятие решений, благоприятных для патрона, располагала прежде всего знать – древние роды и семьи, которые в Риме называли «большими» или «старшими» (maiores) ( Саллюстий . Югурта, 41) 74. Они бдительно охраняли свою фактическую монополию на руководство Республикой и лишь в единичных случаях допускали к вершинам магистратской карьеры «новых людей».
В общественно-политической жизни микрогруппы выступали как клики, которые постоянно боролись между собой за выгоды, влияние, власть. Один из многочисленных примеров – борьба клики Катона Старшего в 190—180-х годах против Сципиона Африканского и его окружения. Эпизод этот был изрядно запутан древними историками 75и еще больше – попытками историков нового времени дать ему четкую и однозначную социально-политическую и – или – идеологическую интерпретацию 76. Какой бы точки зрения в этом вопросе не придерживаться, здесь, однако, совершенно отчетливо предстает интересующая нас сторона дела: важно не то, что каждый из протагонистов окружен плотной группой родственников, друзей и зависимых лиц, и даже не те социально-политические силы, которые за ними стоят, а готовность к любым махинациям ради выгоды своей группы и поражения соперничающей без помышления о том, как это скажется на интересах государства 77. Частным, но подчас решающим следствием микрогрупповой структуры римского общества было также выдвижение на руководящие должности не на основе таланта человека или его права занимать эти должности, а на основе клановых связей. Обстоятельство это совершенно очевидно, оно было детально и многократно проанализировано историками нового времени, и вряд ли есть необходимость подтверждать его примерами 78.
Очень многие обстоятельства и события, подтверждающие все здесь сказанное, у Ливия описаны, но описаны с той же постоянной его целью – показать, что подобные эпизоды существуют, но в высшем смысле несущественны, могут окрасить поверхность римской истории, но не изменить ее направление и смысл, ее величественное течение и общенародный характер.
Благочестие римлян, как мы видели, было неотделимо от их патриотизма и выражалось прежде всего в их убеждении в нераздельности религии и государства. Положение это приводило к распространению политических распрей на сферу религии и к использованию народной веры в обряды и знамения в интересах борющихся клик. Борьба патрициев и плебеев в первые века существования Республики, подрывавшая единство общины и делавшая его скорее целью и упованием, нежели повседневной реальностью, целиком захватывала сферу религии в ее самой важной, самой чувствительной для римлян части – в определении и толковании воли богов. Истолкование знамений, действительных на долгий срок (авгурий) или определявших поведение римлян в данной ситуации (ауспиций), на протяжении нескольких веков было монополией патрициев. Но без проведения авгурий и ауспиций, без благоприятного их исхода нельзя было предпринимать практически ни одного государственного действия, правового, политического или военного. Поэтому созыв народных собраний, санкция на отправление магистратами своих обязанностей, сооружение и освящение храмов, общественных зданий, водопроводов, объявление войны или заключение мира, принятие сражения или уклонение от него, проведение игр находились в руках патрициев. «Мудрая уверенность в том, что всем руководит и управляет воля богов» становилась мощным оружием одной части общества, направленным против другой его части.
Плебеи, естественно, не мирились с этим положением, вынуждали патрициев к одной уступке за другой, пока наконец в 300 г. не был сделан решительный шаг и по закону, проведенному народными трибунами братьями Огульниями, жреческие коллегии не стали пополняться также и плебеями. События, связанные с принятием Огульниева закона, Ливий описывает в своей обычной манере: сначала бранит трибунов, которые покусились на сплоченность гражданского коллектива, «начав распрю меж первых людей государства из патрициев и плебеев, во всем выискивая повод обвинить отцов-сенаторов перед простым народом» (X, 6, 3—4); потом приводит аргументы, разоблачающие высокомерие патрициев, также идущее во вред общине, и кончает тем, что «закон был принят при всеобщем одобрении» (X, 9, 2). В ходе дальнейшего рассказа как-то проскальзывает мимо внимания, что «общее одобрение» никак не означало ликвидацию конфликта, и раскол общины на религиозной почве продолжал существовать в полной мере (см.: X, 23, 1—10). Неизвестно, нашла ли отражение в одной из несохранившихся книг Ливия попытка народного трибуна 145 г. Гая Лициния Красса добиться дальнейшей демократизации религиозной жизни общины и провести закон о пополнении жреческих коллегий не традиционным способом – путем кооптации, а всенародным голосованием, но на продолжающиеся гражданские распри, источником которых являлась по-прежнему религиозная организация общины, этот законопроект и провал его сенаторами указывает с полной определенностью 79.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
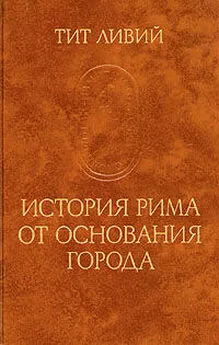
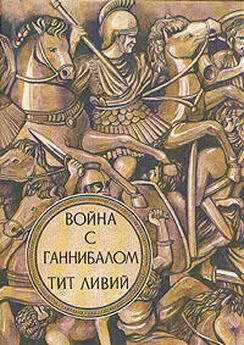
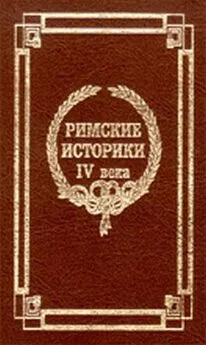
![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)