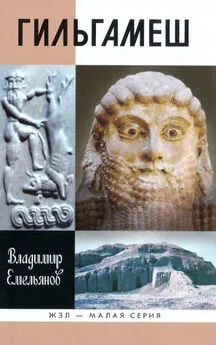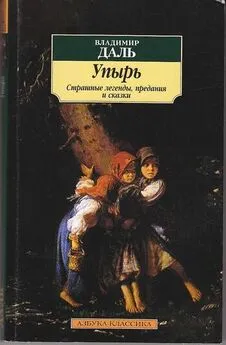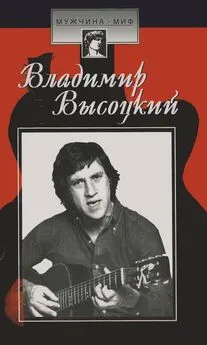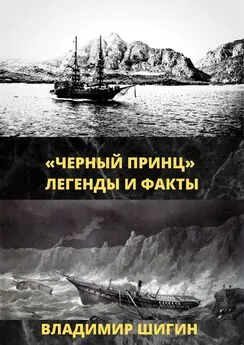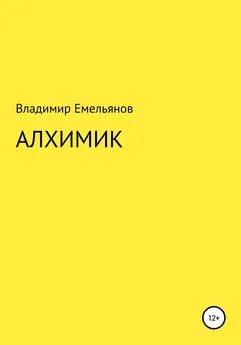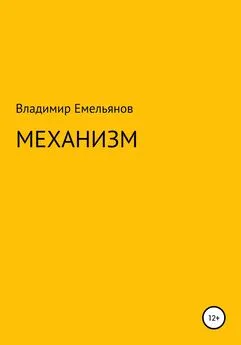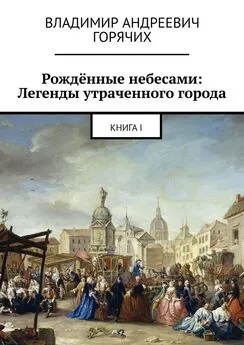Владимир Емельянов - Гильгамеш. Биография легенды
- Название:Гильгамеш. Биография легенды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:М.:
- ISBN:978-5-235-03800-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Емельянов - Гильгамеш. Биография легенды краткое содержание
Был ли Гильгамеш реальной исторической личностью? За какие подвиги он был обожествлен? Как образ Гильгамеша отразился в мировой культуре? На эти и другие вопросы отвечает книга петербургского шумеролога В. В. Емельянова.
Гильгамеш. Биография легенды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое впечатление, что авторы списков намеренно хотят отнять у Бильгамеса его основную политическую заслугу, известную во времена Шульги (а скорее всего, и раньше), и его право на статус полноценного правителя. Действительно, далее мы увидим, что исинско-аморейская традиция отсекла от легенды Гильгамеша историю о победе над Кишем. В вавилоно-ассирийском эпосе эта история отсутствует не только мотивно, но и формульно. Авторы поздних версий почти ничего из нее не заимствуют. Несколько строк хвалы Унугу пригождаются только автору Пролога к новоассирийской версии. Из двух заслуг, упомянутых в гимне Шульги О, была оставлена и развита послешумерской традицией только победа над Хувавой в кедровых горах.
В чем же тут дело? Дело, вероятно, в том, что на рубеже III–II тысячелетий новые насельники Южной Месопотамии совершенно не представляли себе, почему победа Унуга над Кишем является таким значительным событием для истории. Экспансия Бильгамеса была заменена ими на подвиг созидания. Так, в надписи эна Анама из Унуга (XX — начало XIX века) упомянута стена Бильгамеса, которой он некогда обнес свой город:
«Когда Анам, отец войск Унуга, сын Иланшемеа, стену Унуга, древнюю постройку Бильгамеса, на место свое вернул (= восстановил), — чтобы воды, ее обтекающие, рычали, из обожженного кирпича он ее для него (= Бильгамеса) построил» {33} 33 Frayne D. R. Old Babylonian Period (2003–1595 BC). Toronto, 1990. P. 474–475.
.
А в надписи из Туммаля, где рассказана история многочисленных подновлений храма супруги бога Энлиля и перечислены имена царей-реставраторов, Бильгамес оказывается в числе благодетелей храма вместе со своим сыном Урлугалем:
«Бильгамес Дунумунбурру, престол Энлиля, построил. Урлугаль, сын Бильгамеса, сделал Туммаль процветающим, ввел в Туммаль богиню Нинлиль» (12–15) {34} 34 Sollberger E. The Tummal Inscription // Journal of Cuneiform Studies 16 (1962). P. 40–47.
.
Надпись эта, как достоверно известно из последних ее строк, составлена для прославления исинского царя Ишби-Эрры (ок. 2017–1985). Так Бильгамес-воин оказался заменен в ранней аморейской традиции на Бильгамеса-строителя. Однако этот новый образ, прошедший незамеченным через множество столетий, пригодился традиции Гильгамеша только в последний век ассирийской истории.
Итак, в клинописных источниках III — начала II тысячелетия до н. э. у биографии Бильгамеса три версии. Согласно наиболее ранней, идущей от гимнов царю III династии Ура Шульги, он сын Лугальбанды и Нинсун, разбивший царя Киша Энмебарагеси. Согласно чуть более поздней, он сын Лугальбанды и Нинсун, разбивший Аггу, сына Энмебарагеси. Согласно самой поздней версии, отраженной в «Царских списках», его отцом был дух, а Энмебарагеси одолел вовсе не Бильгамес, а Думузи из Куары. Разумеется, все эти несообразности были следствием отсутствия в то время литературных и биографических канонов. Уже в III тысячелетии до н. э. каждая династийная и городская традиция имела собственное мнение о происхождении и заслугах Бильгамеса. Можно, конечно, выстроить события в одну линию и предположить, что сперва Думузи из Куары победил кишского лугаля Энмебарагеси, а затем Бильгамес повторно одолел и его самого, и его преемника Аггу. Но тогда теряет значение миф о перенесении власти из Киша в Унуг именно в эпоху Бильгамеса. Однако если политическое событие перенесения власти еще можно рассматривать как двухэтапное, то ничего подобного не придется говорить о происхождении героя. Если рождение от священного брака эна Лугаль-банды и богини Нинсун является сакральным и почетным происхождением, то рождение от некоего неизвестного духа было подозрительно для земледельческой шумерской традиции. Между тем для кочевых народов (например, для западных семитов, к числу которых принадлежали амореи) зачатие от неизвестного или сверхъестественного отца лишь подчеркивало героическую природу правителя. Об этом свидетельствуют истории Саргона, Моисея и Иисуса. Поэтому есть смысл склониться все же к мысли о существовании разных версий биографии и политической деятельности Бильгамеса в разных городах и в разные эпохи истории Месопотамии.
Завершая обзор всех известных исторических сведений об эне Унуга и «лугале юношей» Бильгамесе, хочется задать известный горьковский вопрос: «А был ли мальчик?» Могут ли разрозненные сведения разных эпох, записанные на шумерском языке, свидетельствовать о реальном историческом бытии человека по имени Бильгамес-Гильгамеш? Не сродни ли он таким мифологическим, никогда не существовавшим в действительности персонажам, как Геракл или Одиссей? То, что у него были сын и более позднее потомство, ни о чем не говорит: у греков можно было возводить свою родословную хоть к Посейдону. То, что ему приписываются воинские подвиги и строительство стены, можно приписать правителям более позднего времени, деяния которых по традиции следовало возводить к некоему далекому и славному пращуру. То, что существовал его культ в поминальных местах и ему приносились жертвы, прекрасно укладывается в ту же античную модель поминок и почитания умерших героев. Для того чтобы героя почитали, ему необязательно было реально существовать в истории.
Что же подтверждает для нас реальность Бильгамеса? Ответ может показаться парадоксальным и даже нелепым: именно то, что шумеры не были греками. Им не присуще наделение фантомных персонажей свойствами исторических личностей, они не стали бы почитать человека, не оставившего материальный след в памяти коллектива, то есть не стали бы приписывать правителю вымышленные подвиги, тем более не стали бы считать умершим никогда не жившего человека. Они более бесхитростны и более конкретны в своем восприятии мира, они жили до графомании и до фантастики. И потом — они очень боялись бога Уту, который мог изобличить их во лжи. Почитаемый ими герой носил обыкновенное человеческое имя, был известен как один из правителей конкретного города, с его именем связывалось первое крупное событие политической истории Шумера.
Если же обратиться к особенностям работы коллективного сознания, то вполне вероятно, что люди Унуга накрепко запомнили необычного правителя Бильгамеса, который боялся умереть и быть забытым. Причем боялся настолько, что без конца придумывал действия, благодаря которым он мог бы хорошо запомниться как своим гражданам, так и потомкам. Во времена Бильгамеса письменность уже была, но шумеры еще не додумались до памятных стел с надписями, и прославиться можно было только своими делами. Вот он и действовал — то покорял соседние города, то обносил стеной свой город, то ходил в далекие походы сражаться с чудовищами. Умер он, скорее всего, естественной смертью (если бы погиб, то о его героическом конце точно сообщили бы в каком-нибудь тексте). А когда умер, то стал такой притчей во языцех, что само действие человеческой памяти, воскрешающей умерших, стали связывать с его именем. Ведь никому, кроме Бильгамеса, месопотамская традиция не приписала подобных свойств. А это и есть свидетельство его реальности и уникальности в жизни того времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: