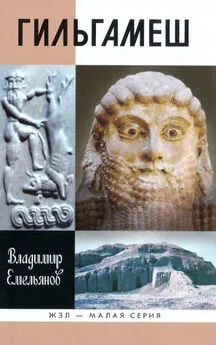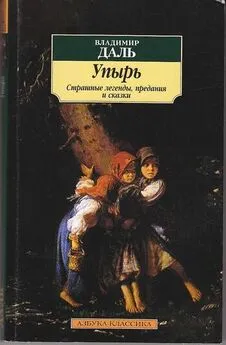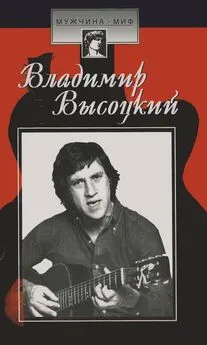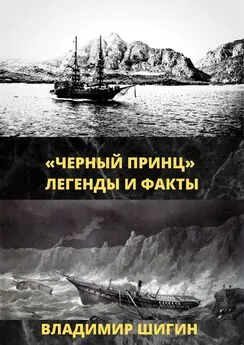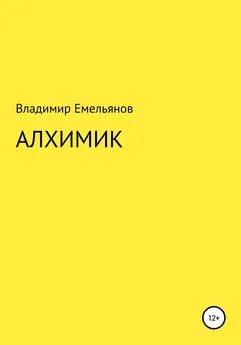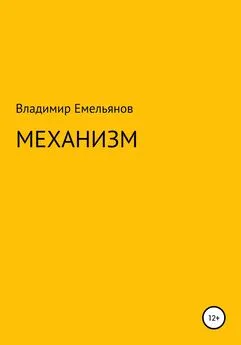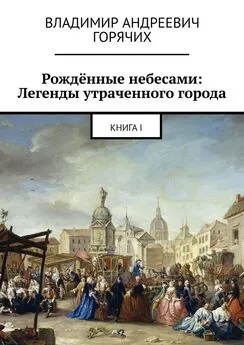Владимир Емельянов - Гильгамеш. Биография легенды
- Название:Гильгамеш. Биография легенды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:М.:
- ISBN:978-5-235-03800-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Емельянов - Гильгамеш. Биография легенды краткое содержание
Был ли Гильгамеш реальной исторической личностью? За какие подвиги он был обожествлен? Как образ Гильгамеша отразился в мировой культуре? На эти и другие вопросы отвечает книга петербургского шумеролога В. В. Емельянова.
Гильгамеш. Биография легенды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Суть концепции Мережковского в том, что сначала существовала высокоразвитая культура первого человечества — Атлантида, которая была смыта водами всемирного потопа. На смену ей пришла культура второго человечества и религия Отца, воплощенная в устройстве государств Египта, Вавилона и Израиля. Эти государства были сметены огненным потопом римских войн. С появлением христианства наступила эра религии Сына, которая постепенно должна перерасти в религию Духа. Религию Духа Мережковский считает материнской, мужеженской по сути, ее законы послужат человечеству Третьим Заветом и спасут его от гибели: «В первом царстве Отца, Ветхом Завете, открылась власть Божья, как истина; во втором царстве Сына, Новом Завете, открывается истина, как любовь; в третьем и последнем царстве Духа, в грядущем Завете, откроется любовь, как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель» {158} 158 Мережковский Д. С. Грядущий Хам. М., 1906. С. 28.
. Гибель же придет от десакрализации пола и от появления Грядущего Хама. Поскольку Хам уже пришел в образе большевизма, это означает распространение хамства по всему миру. Следовательно, нужно думать о восстановлении материнского начала мира уже сейчас.
Образ Гильгамеша вписан у Мережковского в образ Вавилона и вавилонской культуры {159} 159 Мережковский Д. С. Тайна трех. С. 394–495.
. О Вавилоне он пишет:
«Вавилон возлюбил страдание, потому что понял, — о, конечно, не умом, а сердцем, — что «страдание — единственный источник познания» — источник свободы, источник личности. Любовь к страданию, «страсть к страданию» — душа Вавилона».
«Ночь светлее дня для Вавилона; лунный бог, Син, выше, чем Шамаш, бог солнечный».
«Бог для Египта — свет, а для Вавилона — свет и тьма, или, точнее, борение тьмы и света, их противоположность..»
«Для Вавилона божество наивысшее — не солнце и даже не луна, а светило самое ночное, малое, тайное — Звезда… Существо вавилонских богов — звездное».
«Наблюдая движение светил, вавилоняне первые поняли, что не бессмысленный случай правит миром, а закон… Основа точного знания, понятие закона родилось в вавилонской звездной мудрости».
«Египет не молится, он только благодарит и славословит Бога, как будто все уже есть; а Вавилон понял, что и все — ничто перед Богом; нищету и наготу свою увидел, — и родилась молитва».
«Ни греха, ни покаяния не знает Египет; Вавилон познал грех и покаялся. Египет стоит, Вавилон падает ниц перед Богом. Сухи очи Египта, не плакали; очи Вавилона влажны от слез; первый заплакал он сам и плакать научил других, постиг блаженство слез».
«Египет: в начале мира — тишина, Вавилон — борьба».
«Понял Вавилон… динамику времени, движение мира от начала к концу».
«Не бессмертия души ищет Вавилон, а воскресения плоти: тайна воскресная для Вавилона, так же, как для Египта, есть тайна животная, растительная, звездная — тайна всей космической плоти».
«Напряжение двух противоположных начал есть Божественная сущность мира. Вот почему в вавилонских изваяниях богов, людей и животных напрягаются таким страшным напряжением, как бы окаменелою судорогою, переплетенные, перекрученные, как морские канаты, исполинские жилы, мышцы и мускулы… Тут за явлением силы физической — явление воли метафизической — душа Вавилона: вечно борется она, труждается, «восхищает усилием царство небесное» или земное».
От Вавилона автор «Тайны трех» переходит к образу Гильгамеша. По Мережковскому, два основных образа вавилонской культуры — мистериальный образ Таммуза и мифологический образ Гильгамеша. Таммуз и Осирис — две тени Сына (Христа), воплотившегося только в Израиле. Оба связаны с Матерью-Женой и воскресают потому, что Мать оживляет их своим нисхождением в Преисподнюю. Гильгамеш — предтеча Фауста, понимающий, что знание не дает живому вечной жизни. Но он не принимает брачного предложения Иштар и тем самым отказывается от Матери, а ведь только она способна воскресить умершего своей любовью. Поэтому Таммуз через Мать воскресает, а Гильгамеш через отказ от Матери умирает.
«Древо Познания не есть Древо Жизни: кто вкусит от первого, не вкусив от второго, смертью умрет. Несоединимость двух порядков, бытия и мышления, вот источник Гильгамешевой-Фаустовой трагедии» {160} 160 Там же. С. 425–519.
.
«От Гильгамеша до Фауста, все они таковы, искатели вечной жизни, не возлюбившие души своей даже до смерти, обуянные «страстью к страданию».
«Следует сказание о потопе — гибели первого человечества. Что сердцу Гильгамеша смутно брезжило, то здесь уже освещено почти ясным светом сознания: смерть человека — смерть человечества, и воскресение человека — воскресение человечества».
«Нищим ушел он и нищим вернулся. Но, тайны жизни не узнав, хочет узнать по крайней мере тайну смерти».
«Путь Гильгамеша — путь всего Вавилона-Ассура… Путь его — путь всего человечества».
«Вечной жизни живых ищет Гильгамеш и не находит; воскресения мертвых ищет Таммуз и находит.
Человек умер — умерло человечество: таков смысл Гильгамешева мифа, а смысл мистерии Таммузовой: человек воскрес — воскресло человечество».
«Связан пол с личностью на обоих полюсах: восстановление, исполнение личности есть воскресение; но личность без пола — тайна Одного без тайны Двух — не может исполниться. Вот почему не находит Гильгамеш вечной жизни: воскресительница мертвых, muballitat miti, — есть богиня Иштар, а ее-то он и отверг».
Гипотеза Гильгамеша-Фауста интуитивно красива и на типологическом уровне убедительна, но несостоятельна в своей фактической части. В первой части эпоса (I–VI) Гильгамеш не искал познания, он хотел славы и стремился к воинским подвигам. Во второй части (VII–X), утратив друга, Гильгамеш стал искать вечной жизни тела. И только в конце своего пути он приобщился к познанию событий эпохи потопа (XI). Его дорога пролегла от жизни к познанию. Поэтому вряд ли его путь можно сравнить с путем Фауста, который, напротив, шел от познания к жизни. Гипотеза о бессмертии, получаемом через богиню, глубока и оригинальна. В самом деле, во множестве гимнов и надписей шумерского и аккадского времени говорится о том, как простой человек (Думузи или Саргон) стал царем после любви с Иштар {161} 161 Westenholz J. G. Legends of the Kings of Akkade. Winona Lake, 1997. C. 40–41.
, или о том, как царь (Нарам-Син, Шульги, Шу-Син) стал богом после священного брака с богиней {162} 162 Klein J. Three Sulgi Hymns. Bar-Ilan, 1981. C. 136–145.
. Иштар в ипостаси Гулы действительно считалась воскресительницей мертвых. Однако с точки зрения фабулы текста Гильгамеш отказывает Иштар, потому что он боится разделить судьбу остальных ее мужей, которым Иштар уготовила гибель или превращение {163} 163 Parpola S. The Standard Babylonian Epic of Gilgamesh. Helsinki, 1997. Табл. VI. Стрк. 51–79.
.
Интервал:
Закладка: