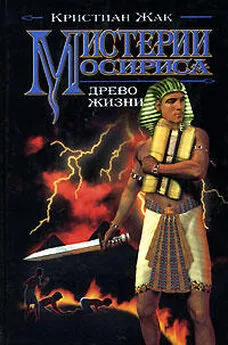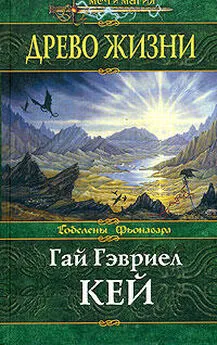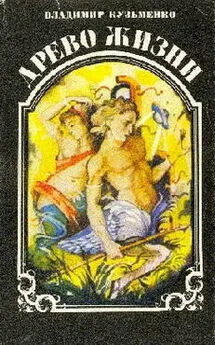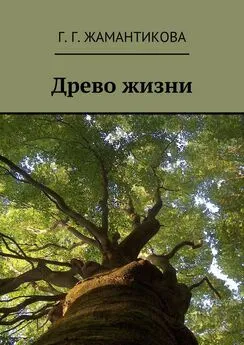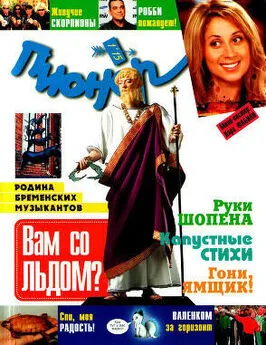Александр Афанасьев (классик) - Древо жизни
- Название:Древо жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1982
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Афанасьев (классик) - Древо жизни краткое содержание
Древо жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вас не спасет ни могучий поток, серебристо-пучинный, Ксанф! Посвящайте ему, как и прежде, волов неисчетных, В волны бросайте живых, как и прежде, коней звуконогих: Все вы изгибнете смертию лютой...
Подобное же участие в народных усобицах принимают реки и в славянском эпосе. Так, в чешской песне о Забое бурные потоки губят врагов-немцев, которые хотят переправиться на другую сторону, а своих (чехов) невредимо выносят на берег. Когда Игорь ушел из половецкого плена и прибежал к Донцу, эта река (как повествует "Слово о полку Игореве") приветствовала его: "Княже Игорю! не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а русской земли веселиа". — "О Донче! — отвечал Игорь, — не мало ти величия, лелеявшу князя на влънах, стлавшу ему зелену траву на своих сребреных брезех, одевавшу его теплыми мъглами под сению зелену древу; стрежаше его гоголем на воде, чайцами на струях, чрьнядьми на ветрех". Игорь воздает честь Донцу за то, что лелеял его на своих водах, укрывал его мглою от вражеской погони, стлал ему по берегам мягкую траву и заставлял оберегать его покой речных птиц. Не так, говорит, поступила река Стугна; "худу струю имея" и пожрав чужие ручьи, она потопила юного Ростислава. Понятно, почему Ярославна сочла долгом обратиться к Днепру с такою мольбою: "О Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли насады (ладьи)... възлелей, господине, мою ладу (моего мужа) к мне, а бых не слала к нему слез на море рано". У сербов уцелела клятва: "Вода га одниjела!" (в смысле: пропади без следа!)...
По мере того как поэтические олицетворения, придаваемые рекам, озерам и источникам, более и более отделялись от своей стихийной основы и получали в убеждениях массы независимое, самостоятельное бытие, воды стали рассматриваться как жилища этих вымышленных существ. Самые обыкновенные житейские нужды требовали, чтобы человек селился у воды. Потому духи — обитатели колодцев, прудов, озер и рек, у которых селились родичи, были для них такими же близкими божествами, как и пламя, разводимое на семейном очаге. Народные поверья сообщают многие аналогические черты, которые обнаруживают сродство водяного с домовым и равно сближают их с эльфами — и это понятно: как последний есть водворенный на очаге бог-громовник, так в первом узнаем представление о дождящем божестве, низведенное на земные потоки. В характере водяного доселе заметны следы этого древнейшего представления. Наши крестьяне называют его тем же именем дедушки, какое присваивается домовому; имя это дается иногда и лешему, который первоначально также принадлежал к разряду облачных духов...
В весенней грозе выступает Перун на битву с демонами, разит их своею громовою палицею, сбрасывает с воздушных высот вместе с падающими молниями и дождевыми ливнями и заставляет укрываться в ущельях гор, в дремучих лесах и глубине вод (все это: горы, леса и воды — метафорические названия облаков). Как представители темных дожденосных туч, против которых направлены Перуновы удары, водяные смешиваются с нечистою силою; народные пословицы говорят: "Был бы омут, а черти будут"; "Всякому черту вольно в своем болоте бродить"; "Черт без балота ня будець, а балота без черта"; "Черт богато грошей мае, а в болоте сидит"; "В тихом омуте черти водятся"; "Из омута в ад как рукой подать!"; "Все бесы в воду и пузырья вверх!" Дедушка-водяной (водяник, водовик) живет в омутах, котловинах и водоворотах рек, прудов или озер, живет и в болотах — и тогда называется болотняник; особенно же любит он селиться под водяною мельницею, возле самого колеса. Мельница принималась за поэтическое обозначение громоносной тучи, и именно в этом представлении кроется основа мифической связи водяного с мельницами. На каждую мельницу полагают по одному водяному, и даже более — если она имеет два и три постава: всякий водовик заведывает своим колесом, или, как выражаются белорусы: "Всякий черт на свое коло воду цягнет". В то время, когда колесо бывает в ходу и вертится с неуловимой быстротою, водяной сидит наверху его и брызжет водою. Мельник непременно должен быть колдун и водить дружбу с нечистыми; иначе дело не пойдет на лад. Если он сумеет задобрить водяного, то мельница будет всегда в исправности и станет приносить большие барыши; напротив, если не поладит с ним, то мельница будет беспрерывно останавливаться: водяной то оберет у шестерного колеса пальцы, то прососет дыру у самых вешников — и вода уйдет из пруда прежде, нежели мельник заметит эту проказу, то нагонит поводь и затопит колеса. Один мужик построил мельницу, не спросясь водяного, и за то последний вздул весною воды с такою силою, что совсем разорил постройку: рассказ, сходный с преданием о мельнице, которую разорили Ильмень-озеро и Черный ручей. Водяной относительно мельницы является с тем же значением, с каким домовой относительно жилого дома; как ни одно жилье не может стоять без охраны усопших предков, почему и закладка его совершается на чью-либо голову, так точно со всякой новой мельницы водяной (по народному поверью) берет подать, т. е. увлекает в омут человека. При постройке мельницы достаточно положить зарок на живую тварь: свинью, корову, овцу (намек на древние жертвы) или человека, а уж водяник рано или поздно найдет свое посуленое и утопит в воде; большая мельница строится не менее как на десять голов (Тамбов, губ.). Народ представляет водяного голым стариком, с большим одутловатым брюхом и опухшим лицом, что вполне соответствует его стихийному характеру. Вместе с этим, как все облачные духи, он — горький пьяница. Вино и мед были самыми употребительными метафорами дождя; припадая к тучам, бог Индра жадно тянул из них опьяняющий напиток (сому) и поглощал его в свое огромное брюхо; античные сатиры и силены и родственные им лешие и черти отличаются теми же признаками. Водяные и нечистые духи любят собираться в шинках и проводить время в попойках, играя в кости и карты. Уподобление дождя меду заставило признать водяного покровителем пчеловодства; исстари принято первый отроившийся рой собирать в мешок и, привязав к нему камень, топить в реке или пруду — в жертву водяному; кто так сделает, у того разведется много пчел...
Водяные живут полными домохозяевами; в омутах, среди тростников и осоки, у них построены большие каменные палаты; у них есть свои стада лошадей, коров, овец и свиней, которых по ночам выгоняют они из вод и пасут на смежных лугах. Такие же стада находим у бога-громовника и великанов: это — знакомые нам зооморфические олицетворения облаков и туч. Водовики почти всегда женаты и имеют по многу детей; женятся они на водяных девах, известных у славян под разными названиями (моряны, водяницы, дунавки, русалки и пр); вступают в связи и с людским миром, женясь на утопленницах и на тех несчастных девушках, которые были прокляты отцом или матерью и вследствие этого проклятия уведены нечистою силою в подводные селения. Погружаясь на дно рек и озер и задыхаясь в глубоких водах, смертные девы переходят в царство усопших душ и смешиваются с толпами стихийных существ, становятся эльфами и русалками и потому делаются доступными любви водяного. Когда в полноводие, от весеннего таянья снегов или от долгих проливных дождей, выступит река из своих берегов и стремительным напором волн поломает мосты, плотины и мельницы, то крестьяне думают, что все эти беды произошли оттого, что водяные подпили на свадьбе, предались буйному веселью и пляскам и в своем разгульном поезде разрушили все встречные преграды. Свадебное торжество, которое созерцал древний человек в грозовой буре, было перенесено им на весенние разливы рек; связь этого поверья с преданием о пляске Морского Царя, когда он выдавал свою дочь замуж за богатого гостя Садко, очевидна и не требует пояснений. Когда у водяного должна родить жена, он принимает вид обыкновенного человека, является в город или деревню и приглашает с собой повивальную бабку, ведет ее в свои подводные владения и щедро награждает за труд серебром и золотом. Рассказывают, что однажды рыбаки вытащили в сетях ребенка, который резвился и играл, когда его опускали в воду, и томился, грустил и плакал, когда приносили в избу. Ребенок оказался детищем водяного; рыбаки отпустили его к отцу — с условием, чтобы он нагонял в их сети как можно более рыбы, и условие это было им свято соблюдаемо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: