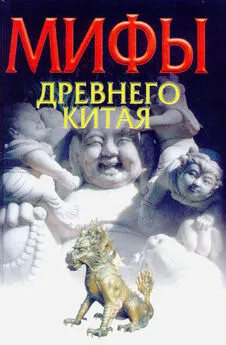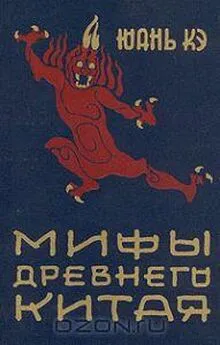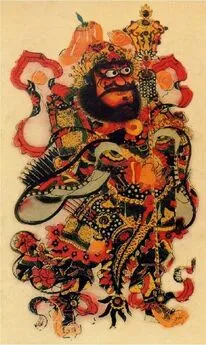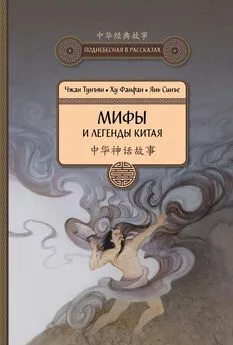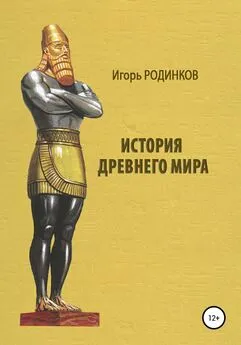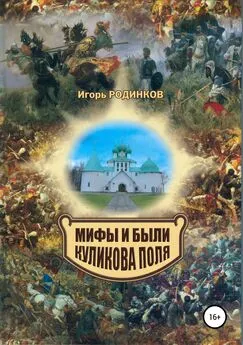Игорь Родин - Мифы Древнего Китая
- Название:Мифы Древнего Китая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:5-17-016851-9, 5-271-05289-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Родин - Мифы Древнего Китая краткое содержание
Мифы Древнего Китая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В силу всего вышеперечисленного войско Хуан-ди терпит поражение за поражением. Кульминационным моментом является тот, когда Хуан-ди, до того не обращавшийся к услугам магии, поставленный в безвыходное положение, вынужден пойти «на поклон» к собственным опальным жрецам. «Мудрый старик» по имени Фэн-хоу при помощи железной статуи, чья рука всегда указывает на Север (очевидно, аналог компаса), выводит его из тумана (вероятно, речь идет все же не о каком-то перманентном волшебном тумане, а о том, что войско Хуан-ди из-за тумана, причиной которого сочли «колдовство» жрецов Чию, сбилось с дороги и попросту заблудилось). Другим магическим деянием, к которому прибегает Хуан-ди, становится вызывание дождя. Производит это действие дракон Инлун. Драконы традиционно были связаны с дождем. В большинстве архаичных религий вода всегда связана с рептилиями, они (в частности, змеи) выступают в качестве ее символа. Вероятнее всего, данный архетип сформировался под воздействием внешнего сходства – змея ползает по земле и извивается, как водный поток (а часто и живет в воде). В соответствии с этим, символом «летучей воды» (дождем) должен быть «летучий змей», т. е. дракон (а если присовокупить сюда еще молнию, то получится огнедышащий дракон). Интересно отметить, что сочетание «ветер» и «вода» звучат по-китайски как «фэн-шуй» – понятие также чрезвычайно важное в мифологии китайцев и обозначающее некую демоническую силу, а вместе с тем и искусство определять пропорции жилища, соотнесение в среде обитания природных элементов с целью уравновешивать эту демоническую силу (вероятно, изначально шла речь о магическом ритуале строительства жилища, призванного, как известно, выполнять функцию защиты от дождя и ветра). Со всей очевидностью из вышесказанного следует, что перед нами вовсе не сказочное существо, а жрец-заклинатель дождя (одна из разновидностей шамана, у которых, как показывают исследования шаманизма, тоже была своя «специализация»). То, что «дракон» устанавливает облака на «специальной подставке», лишний раз подтверждает, что перед нами магический обряд. Так называемая «симпатическая магия» (термин Д. Фрэзера) основывается на положении, что подобное порождает подобное. Отсюда, например, представление, что если наступить на тень человека, то будет приченен вред самому человеку, что если колоть иголками куклу врага, то раны в конечном итоге образуются у твоего реального недруга. Именно на так называемой «симпатической магии» основано большинство суеверий у всех народов (т. е. своего рода обрывков старых представлений, в главной своей части уже дезактуализированных). Магическое действо заклинателя дождя, по-видимому, включало в себя разыгрывание соответствующего действия на «макете» – помещение облаков над войском противника. Отсюда и «специальная подставка». Однако в итоге дождь пошел над войском самого Хуан-ди, что естественным образом было приписано козням противника.
На этом месте резонно возникает вопрос: а не были ли вообще все ответные магические действия Чию и его воинства результатом такой «приписки» со стороны «коалиции, возглавляемой Хуан-ди»? Не были ли они, по аналогии с собственными действиями, лишь объяснением поступков противника и происходящих явлений в привычных для себя понятиях? Ведь «операция» явно описывается с позиций Владыки Центра, а соответственно, в том числе отражает и мировоззренческую систему входящих в ее состав людей. В этом случае получается совершенно обратная картина: в стане Хуан-ди – шаманы и прочие «маги», а о войске противника вообще ничего нельзя сказать (за исключением описания особенностей военного омбундирования и признания высокого качества изготовляемого оружия), так как объективные события даются в преломлении мировоззрения сторонников Хуан-ди.
В качестве контраргументов такому взгляду можно привести следующие факты: а) «Медноголовые» и «железнолобые», т. е. Чию и его братья, выступают в качестве коллективного образа в отличие от строго персонифицированного Хуан-ди. Правда, данный аргумент может служить лишь косвенным подтверждением нашей концепции, т. к. «братья» и Чию могут быть просто соплеменниками, а вовсе не членами жреческого сообщества; б) Хуан-ди не использует магию вплоть до того момента, когда оказывается в безвыходном положении, хотя ни в одном сообществе, в котором господствует шаманизм, военные действия (даже выступление в поход) не совершаются без соответствующих магических процедур. Хуан-ди ничего подобного не предпринимает и лишь потом вынужденно обращается к помощи магов. Примерами сходного поведения единодержавных правителей последующая история изобилует. В минуты особой опасности используются не социальные рычаги воздействия на массы, а самые глубинные, древние, если так можно выразиться, «архитипические» – стереотипы, «вьевшиеся» в сознание и быт людей благодаря «усилиям» предшествующей «идеологии», которые еще долгое время продолжают подпитываться сохраняющимися элементами старого ритуала. Чтобы подчеркнуть вневременной характер этого явления, приведем пример из совсем недавней истории России (при желании читатель сам найдет достаточное количество примеров). Таким примером может служить речь Сталина после начала Великой отечестенной войны, открывающаяся обращением «братья и сестры» и выдержанная в древнерусском жанре «слова» (с которыми обращались деятели православной церкви во время вражеских нашествий к народу). Сюда же можно отнести учреждение ордена Александра Невского, а также обращение к его образу в непосредственной пропаганде (кинематограф). Можно упомянуть еще тайный обнос Москвы по кругу иконой Владимирской Божьей матери. Возможно, в действиях легендарного китайского императора Хуан-ди лежали сходные мотивы. Но возможен и другой вариант. Война Хуан-ди и Чию и последующий эпизод разрушения «лестниц на небеса» относятся к совершенно разным, удаленным друг от друга во времени эпохам и являются плодом позднейшей склейки, когда потребовалось каким-то образом объяснить уничтожение сословия жрецов в правление Чжуаньсюя (здесь важно то, что Чжуаньсюй объявляется преемником Хуан-ди; если это не имело фактических оснований, значит, основания были идеологическими). «Вынужденность» обращения Хуан-ди за помощью к жрецам (шаманам), соответственно, также нужна была для его идеологического (а не только военного) противопоставления Чию и его сторонникам. Соответственно, третий аргумент – в) Войной Центра и Юга оправдывается последующее «разрушение лестниц на небеса». При этом данный аргумент подтверждает наше построение в обоих случаях – и в том случае, если два эпизода не являются результатом последующей склейки, и в том случае, если являются. Если не являются, а отражают реальную причинно-следственную связь и действительную последовательность событий, то наши предположения подтверждаются прямым образом. Если же все-таки являются результатом последующей склейки, то наша гипотеза доказывается негативным образом: подтверждается сама необходимость именно в такой склейке (а соответственно, причинно-следственной связи), и это свидетельствует о том, что речь в мифе о разрушении «лестниц на небеса» идет именно о ликвидации жречества как социального института и запрещении магических практик, а не о чем-то ином. К слову сказать, «лестницами на небеса» у древних египтян и представителей культур Месоамерики (тольтеки, инки) часто именовались пирамиды, так что, возможно, в мифе речь идет и о разрушении соответствующих культовых сооружений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: