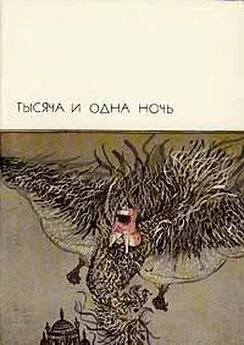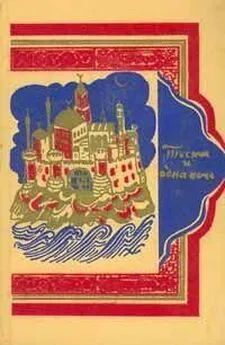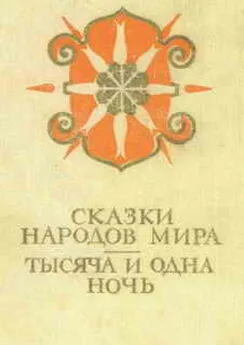Автор неизвестен - Тысяча и одна ночь
- Название:Тысяча и одна ночь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Автор неизвестен - Тысяча и одна ночь краткое содержание
«Тысяча и одна ночь» — собрание сказок на арабском языке, объединённых обрамляющим рассказом о жестоком царе Шахрияре, который каждый вечер брал себе новую жену и на утро убивал её. История возникновения «Тысячи и одной ночи» до сих пор далеко не выяснена; истоки её теряются в глубине веков.
Сказкам «Тысячи и одной ночи» присущи занимательность сюжета, причудливое сплетение фантастического и реального, яркие картины городской жизни средневекового арабского Востока, увлекательные описания удивительных стран, живость и глубина переживаний героев сказок, психологическая оправданность ситуаций, ясная определённая мораль. Великолепен язык многих повестей — живой, образный, сочный, чуждый обиняков и недомолвок.
Сказки Шахразады могут быть разбиты на три основные группы, которые условно можно назвать сказками героическими, авантюрными и плутовскими.
Тысяча и одна ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зато она педантично назовет имена каждого из семи кругов геенны огненной, известные богословам так же хорошо, как число букв в каждом стихе Корана. Но и Таваддуд согласится со сказителем, ведущим рассказ о Булукии, что на севере находится Море мрака, где жизнь невозможна. И хотя Таваддуд знает, как некоторые мусульманские ученые, что земля имеет форму шара, но все же изобразит на своей карте «окружающее море» — омывающий обитаемую часть земли мировой Океан, заменивший горный хребет Каф.
Так сливаются в мире «Тысячи и одной ночи» средневековая ученая и народная традиции, так создается космогония, где сплелись народные мифологические представления о мире с научными, или близкими к научным, воззрениями мусульманских ученых, основывающиеся главным образом на системе Птолемея.
Сказки уносят нас то в Багдад, Басру, Дамаск, Каир, Андалусию, то в Медный город или во владения Синего царя джиннов. Но повсюду, идет ли речь о простых людях — ремесленниках, купцах, путешественниках, либо о царях, везирях, волшебниках и чародеях — перед нами люди одной эпохи, одного мировоззрения, одного общества.
Как большой портовый город, подобный Александрии, соединил пришельцев из разных стран, сплавил унаследованные им традиции древнеегипетской и эллинистической культур с арабо-мусульманской, так Шахразада соединила в своих рассказах разноплеменных героев — арабов и индийцев, персов и жителей Китая. О чем думают эти герои, как поступают, каковы их идеалы?
Желая наставить царя Шахрияра и вместе с ним читателя (вернее, слушателя) на путь истинной добродетели, Шахразада рассказывает сказки и притчи, в которых говорится о том, каким должно быть человеческое общество, каким должен быть человек. Этот вопрос не нов. Еще Платон нарисовал «идеальное общество» в виде гармоническою единства, и арабо-мусульманская культура, наследница греческой, восприняла основные положения греческой и эллинистической этики, на которые наслоились элементы собственно мусульманские. В X веке аль-Фараби, называющий, вслед за Платоном, идеальное общество «идеальным городом», определяет основные «добродетели» людей — членов идеального общества, в XI веке Ион Мискавейх пишет этические трактаты и «заветы», призывая своих современников к самосовершенствованию и «смягчению нравов».
«Тысяча и одна ночь» посвящает этому повествование о царе Азадбахте и его десяти везирях, рассказ о Джиллиаде и Шимасе, множество коротких притч о животных.
Каковы же те этические идеалы, которых должен придерживаться слушатель, привыкший к сочетанию занимательного с дидактическим? Лучшая из добродетелей — сдержанность и терпение, говорит сказитель. Только единственно благодаря сдержанности не казнил царь Азадбахт своего сына, не узнанного им, только благодаря терпению спасается человек, попавший в беду. Не менее важно и благоразумие, умение обуздать свои желания, стремление не быть рабом страстей. Так, царь Джиллиад, отличавшийся в детстве необычайным благоразумием, мудро правит государством. Но стоит ему изменить благоразумию, и подданные восстают против него, и лишь разум вновь выводит его «на путь добра». Сказитель призывает сильных мира сего: «Будьте справедливы, не притесняйте подданных, руководствуйтесь в своих поступках справедливостью и милосердием». Обычно справедливость в «Тысяче и одной ночи» торжествует, злые цари лишаются престола, злые жены умирают лютой смертью, лицемеры и клеветники бывают разоблачены.
Но всюду ли? Шахразада беспристрастна. Рассказав о посрамлении лживых старцев и о наказании, ниспосланном жестокому царю, она переходит к повествованию о хитрой Далиле и коварной Зейнаб, о «молодцах» — членах братства разбойников и грабителей Хасане-Шумане и Али Зейбаке, юрком, словно ртуть, отчего и получил он свое имя.
И совсем другие добродетели ценятся в мире героев этих рассказов — не благоразумие, но хитрость, не сдержанность, по сила и напористость, не терпение, но безудержность желаний. В историях о «ловкачах» действие перехлестывает грани сказки, перенося нас в иной, реальный мир. Да разве похож халиф Харун ар-Рашид [2] Харун ар-Рашид — халиф из династии Аббасидов (766–809), прославившийся победоносными походами против Византии. Постоянный персонаж арабских сказок.
на «идеального» — мудрого и благоразумного правителя, пекущегося о благе своих подданных? Переодевшись, он ходит ночью по городу якобы для того, чтобы посмотреть, как живется народу, а на самом деле для того, чтобы удовлетворить свою необузданную и недостойную «повелителя правоверных» страсть к приключениям. А его могущественная супруга «госпожа Зубейда» нередко идет на преступление из ревности, проявляет, неоправданную жестокость по отношению к своим невольницам, к Абу-Новасу, любимому поэту халифа.
Идеал не совпадает с действительностью, и Шахразада-сказочница, вернее, говорящий от ее имени сказитель не пытается примирить их, одно существует рядом с другим.
Но одна добродетель процветает везде, это — красноречие.
«В красноречивой речи — волшебство» — это изречение, взятое из Корана, было любимо арабскими средневековыми литераторами, утверждавшими, что «пророк» Мухаммед [3] Мухаммед — Мухаммед ибн Абдаллах, основатель ислама (ок. 580–632). Восхваление Мухаммеда и его рода является обязательным зачином произведений средневековой «ученой» литературы и фольклорных произведений
, основатель ислама, избран богом главным образом из-за своего красноречия.
Ничем не гордились арабы так, как присущим им с древности даром слова. Опершись на посох, пастух-бедуин произносил вдохновенные стихи, прославляя свое племя, странствующий рапсод хранил в памяти сотни стихов из древних поэм, помнил все подвиги кочевых племен, а рассказчик «народных романов», таких, как «Жизнеописание Антары», «Сказания о подвигах племени Бену Хилаль», «Жизнеописание царя Сейфа ибн Зу Язаиа» или вошедшие в сборник «Тысячи и одной ночи» «Повесть об Омаре ибн ан-Нумане», «Повесть об Аджибе и Гарибе», пользовались дошедшими до них издавна и освященными традицией формулами-описаниями. Сотни таких формул мы видим в повествованиях «Тысячи и одной ночи».
Слово здесь — могущественная стихия, оно подхватывает самые разнородные сюжеты, известные нам и распространенные в фольклоре других народов, — о волшебной одежде из перьев, чудесных предметах и превращениях, о злой жене и неверных братьях, — и облекает их в пестрый наряд, придающий им неповторимое своеобразие и отличающий от сказок других народов.
Где еще найдем мы подобное кружевное «плетение словес», орнамент синонимов и созвучий, мозаику рифмы, невымученной и естественной? Повествование льется легко и плавно, а там, где сказителю нужна рифма, он не задумывается над ней — ему помогает и необыкновенное лексическое богатство арабского языка, и многовековая традиция, донесшая до него ряд рифмующихся слов — двух, трех, четырех и более.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: