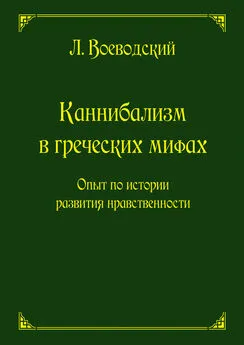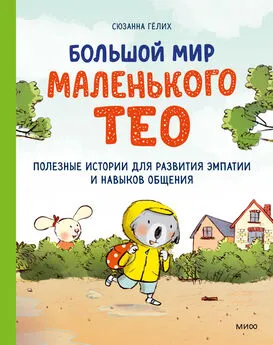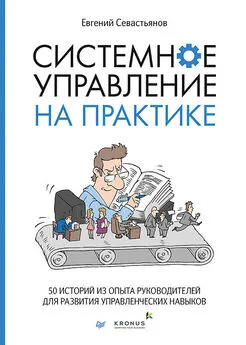Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Название:Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности краткое содержание
Мы восхищаемся подвигами Геракла и Одиссея, представляем себе красоту Елены Троянской и Медеи, мысленно плывем вместе с аргонавтами за золотым руном. Мы привыкли считать мифы Древней Греции образцом поэзии не только по форме, но и по содержанию. Однако в большинстве своем мифы, доступные широкой публике, значительно сокращены. В частности, в них почти отсутствуют упоминания о каннибализме.
Филолог-классик Л. Ф. Воеводский (1846 – 1901) попытался разрешить весь гомеровский эпос в солнечно-лунно-звездный миф и указать на мифы как на источник для восстановления древнейшей бытовой истории народа.
Текст восстановлен по изданию В. С. Балашева 1874 г., приведён в соответствие с нормами современного русского языка, проведены корректорская, редакторская правки с максимальным сохранением авторского стиля.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Существование в греческих сказаниях подобной тенденции – производить своего царя от этих двух олицетворений лжи, обмана и воровства, преимущественно же от Автолика, заставляет нас вникнуть поглубже в значение этого последнего. Имя Автолика означает собственно: «сам волк», что мы лучше передадим посредством: «истый волк». [185]
Прежде чем обратим внимание на этическое значение этого имени, мы должны заметить, что слово λύχος, «волк», не только послужило к образованию замечательного множества мифологических имён собственных, сложных и производных, но и употреблялось очень часто прямо как имя собственное, в неизменённом виде. Уже это одно обстоятельство могло бы возбудить в нас догадку, не следует ли в Автолике видеть именно олицетворение или идеал самого народа греческого в известный период его развития. В этой догадке нас подтверждает ещё и множество других соображений, из которых укажу только на следующие. Что когда-то греки сравнивали себя охотно с волками, этому мы имеем неопровержимое свидетельство в Илиаде, где храброе войско Мирмидонов, предводительствуемых самим Ахиллом, уподобляется волкам в таких выражениях, которые устраняют всякое сомнение. [186] В поэме Ликофрона, лучшего знатока греческих древностей, жившего около 300 года до Р. Х., Кассандра в одном месте аллегорически обозначает греков словом «волки»: она говорит о том, как в Авлиде Калхант «скрепил (?) клятву волков». [187] У Эсхила встречается даже воззвание к богу Аполлону: «Будь для вражьего войска волком (собственно: волчьим)», то есть страшным. [188] Замечателен в рассматриваемом отношении и древний обычай аркадийцев одеваться в меха волков и медведей: Павсаний рассказывает, что в первой Мессинской войне жители Аркадских гор, пришедшие мессинцам на помощь, имели вместо щитов и панцирей волчьи и медвежьи кожи. [189] Если сам факт и не исторически верен, то последняя черта для нас важна. В несомненной связи со всем этим находятся и сказания о превращении людей в волков, сказания, которые особенно часто встречаются в аркадских мифах о Зевсе Ликейском, то есть, «волчьем» (ибо – как уже давно доказано – не иначе это имя понималось самими греками). [190] Павсаний, говоря об основании Ликории, древнейшего, по преданию, города Греции, приводит сказание, по которому жители этого города спасались во время Девкалионова потопа на гору Парнас «под предводительством волков». [191] У того же писателя сохранилось и следующее предание: Данай приходит в Аргос, желая овладеть престолом Геланора, тамошнего царя. Когда народ колебался, кого из них предпочесть, появившийся откуда-то волк бросился пред его глазами на быка, находившегося во главе стада, и растерзал его. Уподобляя Даная волку, а Геланора быку, аргосцы решились отдать престол Данаю. [192] Телохранители тиранов носили на щитах изображение волка. [193] Мы знаем даже, что при многих судилищах находились изображения «героя» Лика, «который имел вид волка». [194] Полагают, что этот волк был не что иное как «символ» самого Аполлона [195] , как и волк, изображаемый на аргосских монетах [196] , и золотой волк, находящийся в дельфийском храме [197] . Сюда, может быть, следует отнести и того «героя» Ликаса в сицилийском городе Темезе, о котором нам сообщает Павсаний, что он изображался в волчьем мехе и что ему приносились когда-то в жертву девицы. [198]
Подобных данных, подтверждающих, что греки и самих себя, и своих героев сравнивали с волками, можно было бы привести бесчисленное множество. Мало того: даже старинные прозвания самых высших и как раз самых древнейших божеств [199] , Зевса (Λύχατος) и Аполлона (Λύχετος, Λύχτος), находятся, очевидно, в столь тесной связи с понятием «волк» (λύχος), что, несмотря на все усилия, учёные не могли опровергнуть глубокого значения этой связи [200] . К. О. Мюллер, говоря об Аполлоне, справедливо замечает, что невероятно, чтобы волк сделался символом Аполлона только вследствие случайного сходства слова λύχος, «волк», с λύχη, «свет», как это утверждали и утверждают некоторые до сих пор. [201] Что понятия «свет» и «волк» оба одинаково важны при объяснении природы и Аполлона, и Зевса, это кажется ему несомненным. Объяснить, однако, эту связь двух, по-видимому, столь различных понятий ему не удаётся, несмотря на всё остроумие, с которым он напирает на дуализм в этих божествах. Но если мы допустим тот вывод, к которому нас склоняют все вышеприведённые факты, именно, что греки когда-то называли сами себя волками, что волк служил высшим идеалом человечества, что название «волк» когда-то считалось лучшей похвалой, какую только можно было придумать, то вся трудность исчезнет. Зевс и Аполлон могли называться уже и потому «волчьими» божествами, что были божествами народа, который называл сам себя волками. К тому заметим ещё, что Зевс и Аполлон суть, очевидно, божества солнца. [202] Но неужели невероятно, что само солнце называлось волком, когда известно, что тучи, с которыми оно вечно борется, назывались «коровами»? В пояснение укажу только на вышеприведённое сказание о Данае, где говорится о том, как «рано утром волк бросился пред стеною (города) на стадо коров». Видя в этом следы какого-нибудь гимна, воспевающего восходящее солнце, я нахожу сравнение солнца с волком очень естественным, по крайней мере вполне соответствующим тем наивным понятиям, которые мы уже привыкли предполагать у первобытных народов. Быстро выдвигающееся среди кровавых облаков солнце – это волк, кинувшийся на стадо белых, истекающих кровью коров; всё же действие происходит не на земле, а за видимыми пределами её – «за стенами». [203]
Но если мы не допустим подобного отождествления божества в понятии младенческого народа с волком, то и не должны говорить о волке, как о символе известного божества. Что значит символ, не означающий самой природы, самого существа того предмета, знамением которого он считается? Мыслим ли к тому же символ, находящийся даже в противоречии с означаемым предметом?
Сказанного мною считаю достаточным для того, чтобы убедить, что волк служил когда-то олицетворением греческого идеала. Сообразно с этим убеждением я смотрю и на значение имени Автолика.
Итак, Автолик, то есть «сам волк» (подобно тому как, например, у нас говорят «сам черт»), представляет нам идеал первобытного грека. Посмотрим теперь, какие этические понятия связывались первоначально с понятием «волк». В древнейшем, дошедшем до нас греческом памятнике, в Илиаде, воины Ахилла сравниваются, как мы уже заметили, с волками. Вот то место, где поэт рассказывает нам, как Ахилл вооружал своих мирмидонов для предстоящего сражения:
«Ахилл же, ходя вдоль всех шатров, вооружал мирмидонов. Те же – словно волки кровожадные (собственно: едящие сырое мясо), которых сердце исполнено неизмеримой отважности, и которые грызут большого рогатого оленя, повергнутого ими в горах. У всех щёки замараны кровью. Вот идут они толпою к тёмной воде источника лакать сверху тёмную воду, изрыгая при этом кровь растерзанного животного! В груди у них – неустрашимое сердце; переполненные желудки раздуты! Таковы были и предводители, и старшие мирмидонов, обступившие храброго слугу быстроногого Ахилла». [204]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: