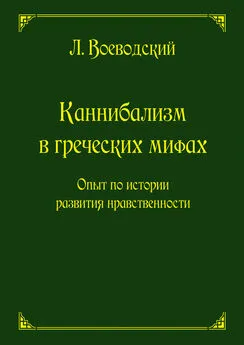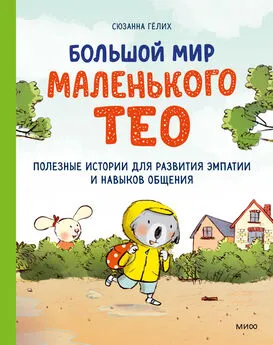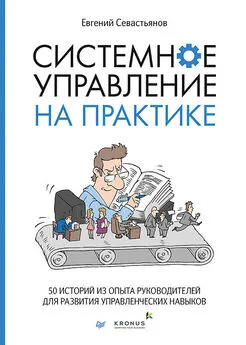Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Название:Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности краткое содержание
Мы восхищаемся подвигами Геракла и Одиссея, представляем себе красоту Елены Троянской и Медеи, мысленно плывем вместе с аргонавтами за золотым руном. Мы привыкли считать мифы Древней Греции образцом поэзии не только по форме, но и по содержанию. Однако в большинстве своем мифы, доступные широкой публике, значительно сокращены. В частности, в них почти отсутствуют упоминания о каннибализме.
Филолог-классик Л. Ф. Воеводский (1846 – 1901) попытался разрешить весь гомеровский эпос в солнечно-лунно-звездный миф и указать на мифы как на источник для восстановления древнейшей бытовой истории народа.
Текст восстановлен по изданию В. С. Балашева 1874 г., приведён в соответствие с нормами современного русского языка, проведены корректорская, редакторская правки с максимальным сохранением авторского стиля.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Всё это описание дикого состояния Циклопов представляет картину, которая оказывается гораздо первобытнее той, которую мы восстанавливаем по так называемому «легендарному» материалу Греции. Если мы и согласимся, что «изображённое в древних греческих поэмах общество лишено достаточной прочности и порядка: что только очень немногое ограждается законами и ещё меньше законы доставляют защиты…; что состояние нравственных понятий представляет нам картину, вполне соответствующую этому столь элементарному политическому устройству» [559] , то всё-таки различие с нашей картиной громадное. Тем не менее она должна, однако, считаться народной, греческой, ибо в основание её легли чисто религиозные мотивы, заимствование которых в данном случае немыслимо; вместе с тем эта картина свидетельствует, как мы видели, всеми своими чертами, что следует признать за ней историческое, бытовое значение.
Желая сравнить образ жизни Циклопов с обычаями теперешних дикарей, мы прежде всего должны заметить, что само собой немыслимо отыскать у которого-либо из живущих ныне народов все черты вместе, характеризующие Циклопов. Так как теперешние дикари представляют далеко не первобытное общество, и представляют отсталое развитие только в некоторых отношениях, развивши зато более сильно другие стороны, то понятно, что они не вполне могут годиться для сравнения с Циклопами, если мы согласны усматривать в последних тип более или менее первобытного общества. Поэтому не лишено будет для нас интереса открыть хоть большую часть указанных черт вместе у какого-нибудь народа. Как на подобный народ, можно указать на открытых недавно Швейнфуртом каннибалов, живущих в Средней Африке и называющихся монбутту.
Народ монбутту, подобно Циклопам, живёт вполне изолированно и не поддерживает сношений с окружающими народами, которые, не имея ничего общего с монбуттами по происхождению, отделены от них ещё почти всюду широким необитаемым пространством. [560] Живут они в прелестной, чрезвычайно плодоносной, изобилующей реками стране, которая, по словам Швейнфурта, вполне заслуживает название земного рая. Народ не имеет никакой надобности заниматься земледелием, так как природа сама производит всё нужное в изобилии. Вследствие своей изолированности они не знакомы с различными тканями и не нуждаются в них, довольствуясь одеждой, которую приготовляют из лыка фигового дерева. Несмотря на несравненно высшую культуру, чем та, которую мы находим у всех окружающих народов, они не только не занимаются обработкой земли, но не знают даже и скотоводства. Кроме куриц и собак, которых они едят, у них нет никаких домашних животных. Так как леса их изобилуют дичью, а реки рыбой, то у них никогда не бывает недостатка в съестных припасах. [561] Мы видим, что в отношении изобилия не только растительной, но и животной пищи их можно сравнить с Циклопами. В пещере Полифема «корзины были тяжелы сыром, а стойла тесно наполнены ягнятами и козлятами… Все сосуды были переполнены сывороткой, все ведра и кувшины, в которые он доил». [562]
Тем не менее, точно как и Циклопы, монбутту являются ярыми каннибалами: «У них, – говорит Швейнфурт, – каннибализм развит более, чем у какого-либо известного нам народа в Африке. Так как они окружены чёрными, презираемыми народами, стоящими на низшей ступени культурного развития, то им представляется возможность делать на них нападения и запасаться достаточным количеством человеческого мяса, которое они предпочитают всякой другой пище. Мясо убитых в сражении они тут же разделяют между собой и сушат для перевозки домой. Пленных же победители немилосердно гонят с собою, с тем, чтобы сделать их [у себя дома] одного за другим жертвою своей дикой жадности». Мимоходом заметим ещё, что у монбуттов особенным лакомством считаются дети. Пойманные дети отдаются на кухню короля. Утверждают, что для него ежедневно закалывается по ребёнку. [563] Наше сказание о Полифеме точно так же, как и подобные о Лестригонах, принадлежит к числу тех немногих сказаний, в которых жертвой каннибализма являются не дети, а взрослые люди. Но не лишено, может быть, значения то обстоятельство, что пожиратели являются, в сравнении со своими жертвами, исполинами, как взрослые перед детьми. Что многие предания о исполинах основаны, по всему вероятию, на сравнении роста фактически существующих народов [564] , это никак не исключает и других факторов, ибо оно не объясняет нам, почему в сказаниях каннибалы являются почти всегда исполинами.
Сходство мифического народа Циклопов с нашими каннибалами Африки ограничивается, однако, только указанными чертами, ибо в других отношениях, напр., относительно государственного устройства, монбутту являются несравненно развитее. Те черты, которых недостаёт при этом сравнении, читатель легко сам отыщет у различных народов охотничьего и пастушеского быта.
Стоит только ещё заметить, что и пожирание сырого мяса, если только об этом можно заключить из гомеровского рассказа, встречается ещё до сих пор у некоторых народов; у греков же, несмотря на давнее знакомство с огнём, удержалось в культе Диониса Омадия, т. е. пожирателя сырого мяса. [565] Примером из теперешних народов могут служить баттайцы (батта), людоеды, живущие на острове Суматра. Приведу описание Фридманна, как они поступают со своей жертвой: «Обыкновенно несчастного привязывают к столбу вне деревни, после чего раджа держит речь перед собравшимся народом, в которой он старается доказать, что этот человек – негодяй, с которым нельзя ничего другого сделать, как только съесть его… После окончания речи каждый из присутствующих вынимает свой нож и с дикой жестокостью отрезает у вопиющей жертвы куски мяса, макает их в какую-то жидкость красного цвета и тут же пожирает без дальнейшего приготовления. Военнопленных, пойманных с оружием в руках, они разрезают подобным образом на куски, не умертвив их предварительно. Шпионов и изменников они тоже пожирают, но прежде чем станут отрезать куски мяса, умерщвляют копьями». [566]
Рассматривая рассказ о людоеде Полифеме, мы не успели обратить внимание читателя на одно довольно странное обстоятельство. Полифем, говорится там, схвативши двух товарищей Одиссея, «ударил их об землю, как щенят». На первый взгляд, правда, мы в этом сравнении не видим ничего особенного. Мы привыкли к обороту: «убить, как щенка» или «как собаку», поэтому и в этом месте сравнение умерщвления людей с убиением щенков нам кажется естественным. Однако в Одиссее говорится не просто об убиении, а об особом способе убиения, именно посредством кидания об землю. Но так как вторая часть всякого правильного сравнения должна представлять всегда факт более известный или обыденный, чем тот, для объяснения которого он приводится, то и «кидание щенят об землю» должно было составлять известный обычай, по крайней мере в то время, когда оно впервые было упот-реблено в подобном сравнении. Правда, что многие и теперь употребляют вполне бессознательно подобные сравнения, как напр., «голоден (или жаден), как волк», «богат, как Крез», никогда не видавши голодного волка, и не зная, кто такой был Крез. Но всё-таки в тех средах, в которых впервые появились эти сравнения, следует полагать, предметы сравнения были очень хорошо известны. Поэтому и из данного места Одиссеи мы должны заключить, что когда-нибудь существовал обычай убивать щенят, кидая их или ударяя об землю. Но спрашивается, при каком случае могло это происходить?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: