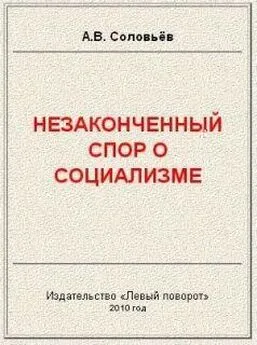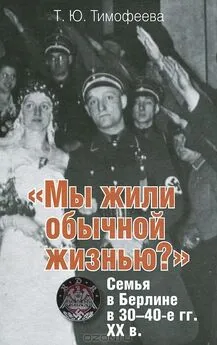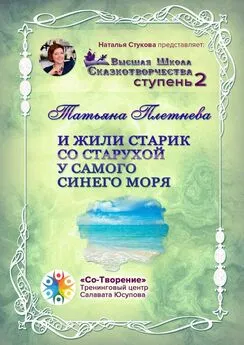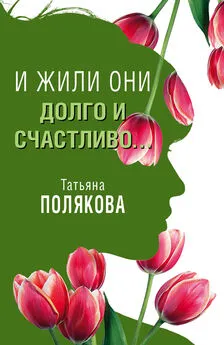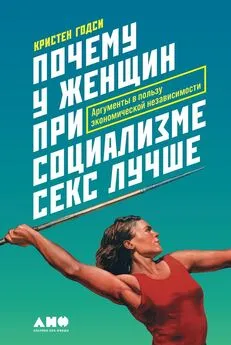Татьяна Шамякина - Как жила элита при социализме
- Название:Как жила элита при социализме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Шамякина - Как жила элита при социализме краткое содержание
Как жила элита при социализме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У нас, детей интеллигенции, приученным к чтению, — еще были и многократно перечитанные собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера и Жюль Верна, «Библиотека приключений», «Библиотека фантастики», постоянные подписки на научно-популярные журналы: «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Знание — сила», «Техника — молодежи», «Юный натуралист», «Юный техник». Жили в постоянном поиске, в мечтах, в стремлении ко все более дальним горизонтам.
Но только назвать стоило бы ту среду и дух времени не «оттепелью» (это слякоть, хмурое небо, грипп), а как-то иначе, учитывая, кстати, при всей обаятельной для элиты атмосфере, ухудшение общего состояния общества. Вернее, все, как и сегодня, состояло из парадоксов, невообразимых противоречий и переплетений добра-зла.
При всех заслугах Хрущева в даровании некоторых свобод все же больше тогда, как мне кажется, действовала инерция Победы, волна послевоенного восстановительного энтузиазма, которая затухала не сразу, постепенно. И наше поколение имело счастье ее застать. А на самом деле, как я показала раньше, вспоминая детали, жизнь в 1960-е годы значительно примитивизировалась. Достаточно вспомнить похвалу Никиты Сергеевича показать по телевизору «последнего попа», взрывы церквей в центре Минска, закрытие в 1961 году Киево-Печерской лавры. Н. С. Хрущев фактически осуществил экономическую и духовную контрреволюцию, но никто этого не заметил среди либеральных, постоянно звучащих побрякушек, общей, что правда, динамики в творческо-художественных процессах — бардовских песнях, повестях Василия Аксенова, многих отличных комедиях и прочего, так притягательного для нас тогда.
Все же полагаю, что мой отец под конец жизни не застыл в своем мнении, а не знал, как в случае с НЛО, что думать. Вот именно не знал, что думать. Это его и погубило: подсознание дало установку на самоуничтожение. Ведь неизвестно, какая предсмертная болезнь унесла Шамякина — при том, что в полном разуме он оставался до конца.
Как драматично принимал Шамякин новую реальность и оценивал прошлое, свидетельствуют его дневники последних лет жизни. А тогда, в 1950— 1960-х годах, ничто не предвещало будущего краха державы, которую большая часть элиты полагала родной. Однако писатели, конечно же, знали намного больше, чем публиковалось в официальных изданиях. Например, Андрей Егорович Макаенок, который общался со многими московскими драматургами, режиссерами и артистами, говорил мне о существовании за рубежом двухсот научно-исследовательских институтов по изучению национальной психологии народов СССР — вплоть до добывания этими институтами стенных газет разных учреждений и предприятий. В тех же специфических зарубежных организациях — специальные отделы по придумыванию анекдотов для наивных советских людей.
Естественно, я в душе по-юношески ничему этому не верила, считая, что взрослые находятся в плену у советской пропаганды. Но в 1990-е годы прочитала о том же у многих солидных, в том числе зарубежных, авторов. Потому сегодня, познакомившись с некоторыми белорусскими якобы юмористическими журнальчиками, сплошь заполненными мерзкими анекдотами про дурных жен и врагинь тещ, я думаю об общей установке, данной понятно откуда, — уничтожении института семьи, родительства, романтической любви, всех привычных для человека ценностей. Ведь отрицать исчезновение и деградацию их в нашей реальности уже невозможно. Но только читатели анекдотов не всегда понимают, что даже в юморе идет работа на некую определенную задачу.
А про плен советской пропаганды я рассуждала тогда напрасно. Отец и его друзья мыслили очень критично и ответственно. Многие их прозрения подтвердились через двадцать лет. Не предвидели они только одного — ликвидации СССР. Хотя военный конфликт допускали. Видели опускание культуры и морали. И если в отношении Сталина и Хрущева их мнения разделились, то в 1964 году, после свержения Хрущева и установления власти Л. И. Брежнева, они оказались единодушны в убеждении, ставленником каких сил он был. И все 18 лет правления Брежнева с этой мыслью и прожили.
Действительно, уже при Брежневе диссидентура реально определилась. Она делилась как бы на две части: высшие обслуживали властную элиту, являясь помощниками, советниками, спичрайтерами Генсека и членов Политбюро. Леонид Ильич снисходительно-добродушно называл их — «мои социал-демократы», то есть видел их нутро, но нюансов, конечно же, не улавливал. Вторая часть — в основном творческая интеллигенция. Иногда Председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов высылал творцов за границу — вовсе не в наказание, а чтобы сохранить, дать известность как гонимым, мученикам, подчеркнуть их якобы значимость.
О диссидентах пишет, правда, уже в наши дни, известный кинорежиссер и актер Никита Михалков: «Я уважаю людей, которые высказывают свою точку зрения, но принципиально не приемлю диссидентства. Потому что, как правило, это борьба не с чем-то конкретным, что мешает жить, а борьба вообще. Борьба с тем, что являет собой принцип власти и силы. Диссидентство — это отрицание. А мне неинтересно ни говорить, ни делать то, что я не люблю. Неинтересно говорить, как я не люблю Ленина. Мне интересней рассказывать, как я люблю Обломова. И вообще объединение людей вокруг «нет» опустошительно. Только те, которые объединяются вокруг «да», могут что-то создать. Меня интересует возможность созидать. <...> Мне объясняют, что интеллигенция всегда была в оппозиции к власти. А почему это должно быть так? <...> Если я верю, что решения власти вызваны искренним желанием сделать стране лучше, я готов ее понять и вместе с ней нести все тяготы». Именно так ощущали себя белорусские интеллигенты, но... до определенного момента. Именно до того момента, когда увидели окружение Л. И. Брежнева.
Я не раз писала о временах Л. И. Брежнева, которые многие мои сверстники вспоминают как золотой век социализма. Я отмечала, что этот период можно рассматривать либо в качестве передышки между невероятно сложными мобилизационными сталинскими годами и хаосом «перестройки», либо как постепенное омещанивание народа и деградацию советского проекта, прежде всего из-за предательства элиты.
В самом деле, можно подходить ко времени правления Л. И. Брежнева по- разному. Как и к любому времени. В каждом — в каждой эпохе, десятилетии, годе, даже дне — есть и хорошее, и плохое, и парадоксальное, и абсурдное, невообразимое — с точки зрения наших потомков.
Я очень многое с энтузиазмом принимаю в нашем времени. Почему бы нет? Ведь я — из 1960-х годов, времени НТР — научно-технической революции. Мы страстно увлекались фантастикой, горячо интересовались научными и техническими достижениями. Очень многие прорывные идеи того времени, пропагандируемые в так любимых мною до сих пор научно-популярных журналах, реализованы именно сейчас, а многое и до сих пор не осуществлено.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

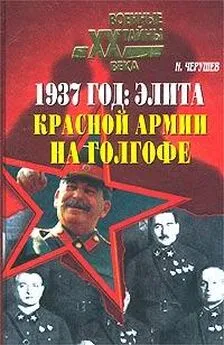
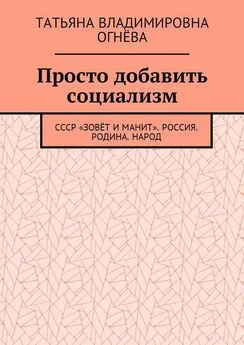
![Кристен Годси - Почему у женщин при социализме секс лучше [Аргументы в пользу экономической независимости] [litres]](/books/1065271/kristen-godsi-pochemu-u-zhenchin-pri-socializme-seks.webp)