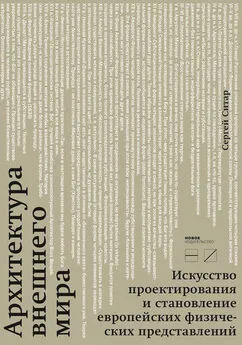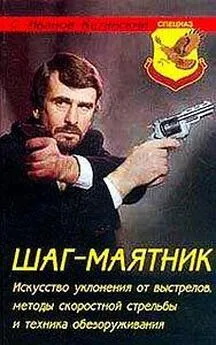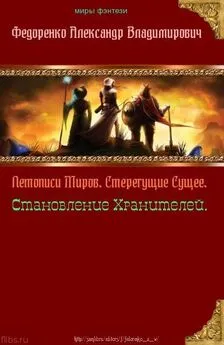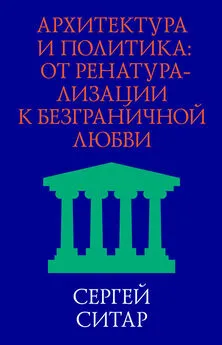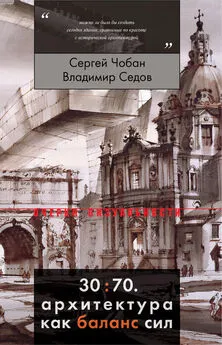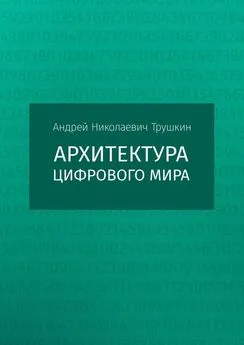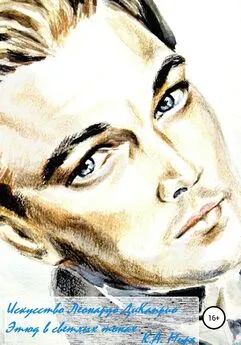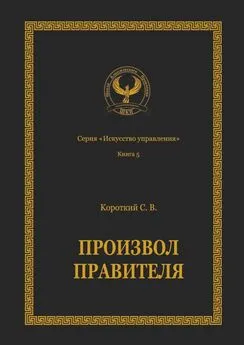Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Название:Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-173-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений краткое содержание
Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В некоторых случаях определенность, характеризующая вещь, не имеет места иначе, как в составной сущности (то есть в соединении формы с материей. – С.С. ), – так обстоит дело, например, с формой дома, если только [здесь] не иметь в виду искусства (для подобных форм не бывает также возникновения и уничтожения, но в [некотором] ином смысле существует и не существует дом без материи… и [вообще] все то, что зависит от искусства); а уж если говорить [об отдельном существовании этих форм], то только – по отношению к предметам природы [54].
Но чем же все таки принципиально отличаются природные вещи от искусственных? Размышления над этим вопросом приводят Аристотеля к установлению различия в способе возникновения, то есть различия между «возникновением благодаря природе» и «актами создания». По поводу последних Аристотель говорит: «Через искусство возникает то, форма чего находится в душе» [55], – причем в применении к дому формой (или идеей) он называет как «дом без материи», так и домостроительное искусство в целом. Но если в области искусства форма может осуществляться, не будучи «самостоятельной», а находясь в душе действующего начала (например, строителя), то не правильнее ли под формами природных вещей понимать нечто, находящееся внутри них самих? И стоит ли в таком случае признавать отдельное существование форм-эйдосов для природных вещей и вводить для объяснения происхождения космоса антропоморфную фигуру демиурга, творящего, глядя на эти вечные «образцы»? [56]Примерно такой ход рассуждений приводит Аристотеля если не к полному отрицанию, то, по крайней мере, к систематической критике платоновой теории идей, из которой рождается его собственное учение о действующем начале природы: если платонов Демиург – это, условно говоря, архитектор, который когда-то сотворил мир в соответствии с заранее созданным чертежом-концептом, то аристотелевский созерцающий себя Разум-Нус, или «неподвижный движитель», творит непрерывно и «энергийно», то есть каждый единичный его акт есть одновременно и частный момент осуществления всеобщего замысла, и законченное, самодостаточное действие, уже заключающее в себе свою цель [57]. Человеку нечто подобное (единично-всеобщее) доступно лишь в виде отдельных моментов его чистой созерцательной разумности и благости: когда человек, например, «видит и тем самым увидел, размышляет – и тем самым размыслил, думает – и тем самым подумал… он живет хорошо и тем самым уже жил хорошо, он счастлив – и тем самым уже был счастлив». Но к ожидающим какого-то внешнего окончания действиям человека это не относится, поскольку «нельзя сказать, что он учится – и тем самым научился или лечится – и тем самым вылечился… идет – и уже сходил, строит дом – и построил его …» [58].
Аристотелевская концепция, как видно из вышесказанного, представляет собой существенно модифицированную версию креационизма Платона, в которой из божественного творчества принципиально исключается «принижающая» его аналогия с творчеством человека – и это прежде всего момент труда по реализации , определяющий дистанцию между замыслом и достижением цели. Помимо этого, Аристотель устанавливает принципиальный водораздел между математическим по знанием природы и божественным всеведением, наглядно показывая, что любое математическое представление обречено на неполноту, поскольку имеет дело лишь с частным аспектом тех или иных реальных вещей («первых сущностей», или «субстанций»), для которых невозможно полное внешнее определение, ибо только само их бытие совпадает без искажений с их понятием – иначе говоря, они есть такие, и только такие, какие они есть. Эта произведенная Аристотелем реконструкция платоновского учения об идеях поражает глубиной и не утрачивает своего влияния в течение последующих двух тысячелетий – ее отголоски отчетливо слышатся и в учении Спинозы о тождестве Природы и Бога, и во всеохватывающем диалектическом синтезе Гегеля. Примечательно, однако, что при всей своей радикальности она ни в коем случае не отменяет основного достижения предшествующего этапа античной мысли, а именно – перехода к трактовке сущего в аспекте формы , которая для Аристотеля есть одновременно и суть бытия, и – в преимущественном смысле – природа рассматриваемой вещи [59]. В этом пункте преемственности между Платоном и Аристотелем обнаруживается основание и отправная точка европейского «исследовательско-преобразовательного» культурного проекта, построенного на представлении о том, что все существующее существует только в меру и в силу своей оформленности. Позицию Гераклита – малоазийского предшественника афинской Академии – еще можно было резюмировать следующим образом: людям кажется, что они имеют дело с некими определенностями, но это лишь иллюзия, с помощью которой слабый человеческий рассудок успокаивает себя; Вселенский же Логос, со своей стороны, столь отличен от всего чувственно данного, что актуально непознаваем. Эта радикально-релятивистская или радикально-скептическая позиция, подтолкнувшая целый ряд античных мыслителей к самоубийству, несомненно послужила «трамплином» для созерцательно-мистического взлета платонизма в сферу вечных умопостигаемых сущностей. И достигнутой в этот знаменательный момент «высоты» европейской мысли хватило надолго – как заметил уже в ХХ веке Мартин Хайдеггер, «вся западная философия [вплоть до Ницше] есть платонизм» [60]. После Аристотеля проблематичность представления об «оформленности» чего бы то ни было сменяется вопросом о том, как именно возможна вот эта – вполне доступная нашему наблюдению – оформленность и откуда она берется. Поэтому восприятие и толкование происхождения природных вещей по аналогии с человеческим осмысленным творчеством и возникающий отсюда концепт технологического креационизма [61] не только не исчезают с культурного горизонта, но, наоборот, последовательно вытесняют всякий познавательный скептицизм. Вот, например, какую метафорическую трактовку акта сотворения мира предлагает Филон Александрийский (I век н. э.), учение которого на фоне учения Аристотеля выглядит как несколько наивное возвращение к возвышенному платонизму:
Когда строится город по великой любви к почестям царя или какого-то правителя, присваивающего себе единоличную власть и вместе с тем блистательного умом и желающего приумножить свое счастье, обычно бывает так, что приходит сведущий человек, обученный зодческому искусству, и, рассмотрев, какие преимущества [для строительства] предоставляет климат и рельеф, вначале в уме рисует едва ли не все части того города, который собирается строить: святилища, гимнасии, пританеи, места собраний, порты, верфи, улицы, укрепления, основания домов и общественных зданий. Затем, запечатлев, словно на воске, в своей душе образ каждой из частей, он воздвигает умопостигаемый город. Посредством присущего ему воображения воссоздав его очертания и еще отчетливее представив детали, он, подобно хорошему ремесленнику, взирая на образец, начинает затем возводить город из камня и дерева, соотнося каждую из чувственных сущностей с умными идеями. Подобно тому следует полагать и о Боге, Который, задумав основать Свой великий град, вначале замыслил его прообразы, из которых составив умопостигаемый мир, Он и стал создавать затем чувственный, пользуясь первым как образцом [62].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: