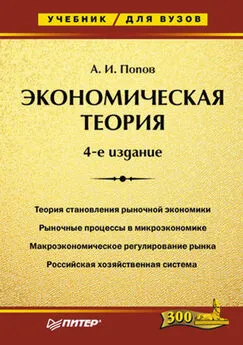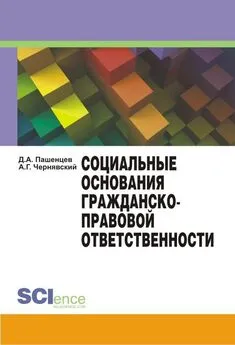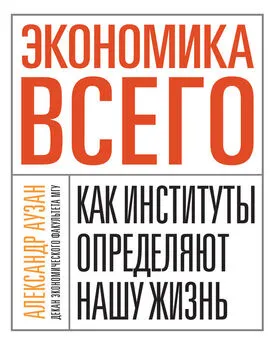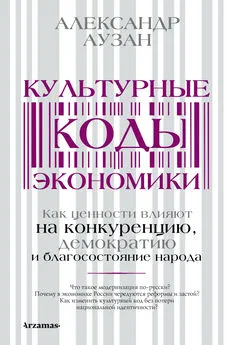Александр Аузан - Экономические основания гражданских институтов
- Название:Экономические основания гражданских институтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аузан - Экономические основания гражданских институтов краткое содержание
Мы публикуем расшифровку публичной лекции Александра Аузана, прочитанной им 13 мая 2004 в клубе Bilingua. Александр Аузан, как и Виталий Найшуль, в научной своей ипостаси – институциональный экономист. Знание, которое оба лектора предъявляли на публичных лекциях, – прагматично и не несет непосредственно в себе ценности (действует по формуле “если .., то…”). Если для Найшуля либерализм – самая эффективная форма социального принуждения, то для Аузана гражданское общество – метод работы с “внешними эффектами”: государство действует посредством принуждения, бизнес - посредством купли-продажи, гражданское общество – посредством установления прав контрагентов и достижения многосторонних договоренностей. У каждого метода есть свои издержки, но “императив модернизации” и эффективное функционирование общественного целого требуют всех трех составляющих.
Интересно, что место и границы всех трех игроков: государства, бизнеса и гражданского общества – у Аузана не фиксированы, сильный институт способен перетягивать на себя функции более слабого. В этом смысле, сущность каждого определяется через метод.
Нам кажется, что это уже есть следствие рефлексии отдельных удач и неудач лектора в его практической ипостаси - как представителя гражданских организаций (см. пример с Ходорковским): по уму нужен был пересмотр “общественного договора”, но президент Путин принял иное решение, и сюжет начал развиваться в более архаичном “гоббсовском” варианте; как следствие, более разумная институциональная конфигурация не состоялась.
Отсюда правомерна постановка вопроса о политике и политической позиции, которая, собственно, и устанавливает право за каждым из этих трех общественных механизмов. И дискуссия в какой-то своей части иллюстрирует остроту этого вопроса и необходимость насыщения предложенной лектором схемы конкретным политическим содержанием, которое могло бы установить современные границы для государства, бизнеса и гражданского общества в России
Экономические основания гражданских институтов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одним из немногих проявлений того, что называется "гражданское общество", является общество, товарищество жильцов, которое протестует против постройки зданий в Москве. Вот сейчас это движение нарастает. В таком случае, что можно предложить? Жильцы могут сказать: мы не будем блокировать двор от проезда грузовиков, которые будут вести стройку. Обращаю внимание, что они предлагают всего лишь не пользоваться нелегитимными методами протеста, потому что эти методы, безусловно, нелегитимные. Легитимным путем они не могут помешать строительству нового дома. А в масштабах государства общественным структурам в принципе предложить нечего.
И конфликт с ЮКОСом, который здесь упоминался, очень показателен. В период правления предыдущего, первого, президента России бизнес имел возможность что-то предложить, потому что бизнес являлся хоть в какой-то части источником для действующей элиты. Источником средств и так далее. И было некое стремление вести диалог власти и бизнеса. Он мог быть извращенным, он мог быть неправильным, мог быть правильным, не будут давать ему оценку, но был диалог, потому что был предмет обмена. Сейчас предмета обмена нет, потому что разговор очень простой: либо играешь по правилам, которые выставлены, либо ты не играешь вообще. А договора опять-таки нет, и, соответственно, нет причины разговаривать. И мне кажется, что причина этого в сегодняшней лекции хорошо прозвучала. Несколько раз у лектора проскальзывало такое настроение, может быть, я его неправильно уловил, но у меня было такое чувство от сказанных слов: государство – это что-то такое злобное, аморфное, большое, оно где-то там должно быть и нам не мешать. А мы тут сами построим, мы тут сами договоримся между собой, у нас все будет хорошо. Главное, чтобы оно нам не мешало. С моей точки зрения, государство – это тоже одна из форм гражданского общества, потому что это тоже является неким предметом договоренности между гражданами страны, форма которой называется конституцией. Договоренность о том, по каким правилам мы будем жить и о чем мы будем разговаривать. В условиях, когда это не работает, соответственно, нет и гражданского общества.
Очень хороший пример был с профсоюзами. В Соединенных Штатах, действительно, все профсоюзное движение было построено на симбиозе рабочего движения и мафии. Получается, что в России этого симбиоза нет и быть не может, потому что самой мафиозной структурой является структура государственная. И было много примеров относительно того, каким образом строятся профсоюзы с участием государства – ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) это, собственно, показывает.
Но самый лучший пример, опять-таки, с делом Ходорковского. Вот РСПП, который периодически называют профсоюзом олигархов. Профсоюз – это когда люди объединяются для защиты своих интересов. Когда их объединяют для того, чтобы ими было проще управлять – а собственно, все профсоюзы, в том числе и традиционные рабочие, за исключением небольшого количества независимых, в России построены именно таким путем, никакой договоренности не возникает и никакого гражданского общества в этой ситуации также не возникает.
Последнее, что хотел сказать. Относительно Японии и Германии, тоже очень показательный пример: переходные процессы там и переходные процессы в странах Восточной Европы в 91-м году. В чем принципиальная разница? Вопрос в том, что в Японии и Германии после войны действительно были разрушены все властные институты, какими бы они ни были. Единственным властным институтом были оккупационные войска. Но при этом все понимали, что вечными оккупационные войска быть не могут. Они уходят и кому-то передают власть. Соответственно, есть повод для консолидации, потому что есть предмет для договоренности. Т.е. нужно консолидироваться, для того чтобы получить власть именно в свои руки – отстроить структуру управления государством именно так, как выгодно тем или иным группам общества. Есть предмет для договоренности: вы нам отдаете власть, а мы отстраиваем общественную и экономическую систему так, как вы ее заказываете. Есть о чем вести разговор. В условиях революционных преобразований, которые происходили в Восточной Европе (хотя они происходили по-разному – в Польше и Чехии, например, произошла смена властной элиты, в России смены властной элиты не произошло), в той или иной степени, те, кто оказались у власти, оказались носителями неограниченного мандата на управление. И, соответственно, опять-таки предмета для договоренности не было, потому что какое-то количество времени надо было просто сидеть и смотреть, будет тот мандат на управление реализован или нет, соответственно, договариваться тоже было не о чем. И в этой связи, как мне кажется, единственная форма гражданского общества, которая сейчас в России возможна, - это форма именно политического сопротивления, потому что она позволяет людям предложить хотя бы одну причину, по которой там быть. По одной причине – это возможность самореализоваться, почувствовать себя свободным и продемонстрировать это окружающему обществу. И никаких других форм нет, потому что нет почвы для взаимодействия.
Аузан. Я хочу начать ответ с того, что Маркс – один из моих любимых мыслителей. Причем Джон Коммонс – один из классических институциональных экономистов – сказал, что Маркс и был первым институционалистом. И ему вообще-то принадлежит фраза, одна из ключевых в теории договора: когда имеет место конфликт двух равных прав, то решение принадлежит силе. Так вот, давайте поймем, что делать, когда нет силы. Я соглашаюсь с Вами: то, что описываете Вы, - это в нашем языке локковская структура социального контракта, когда государство привлекается в качестве агента для обеспечения тех прав, о которых договорились люди и разные группы населения. Но мы находимся в гоббсовской структуре, где права переданы государству и им разверстываются.
У меня есть свое представление о том, как происходило развитие в 90-е годы, потому что, согласен с Вами, конституция – это классическая форма социального контракта, но наша конституция 93 года реально не была конвенцией. Вы помните, в каких условиях она принималась – после путча, в условиях чрезвычайного положения. Поэтому реальной договоренности о правах не возникло, да и сформировавшихся групп-то еще не было, которые могли бы достигать этой договоренности. Потом возникла некоторая верхушечная конвенция 96 года, сговор олигархов с президентом. Я полагаю, что сговор 96 года был на самом деле не вреден для процесса, потому что он позволил не выйти за пределы конституционного поля. При нарушениях массы всяких правил не произошло отказа от конституционного поля. Затем, после тяжелой борьбы 1999-2000 годов, действительно, властью были объявлены условия перемирия в виде концепции равноудаленности для бизнеса, и сейчас вроде бы никакой диалог невозможен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: