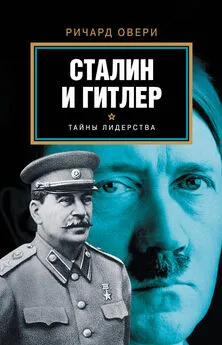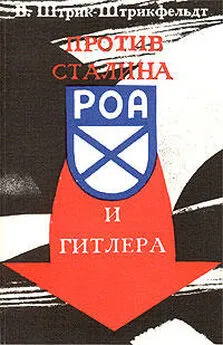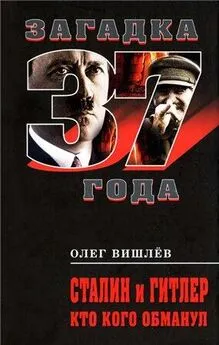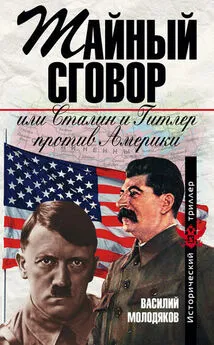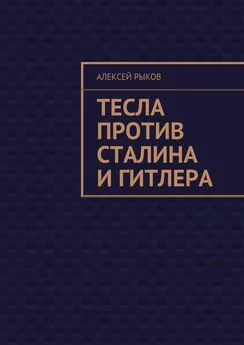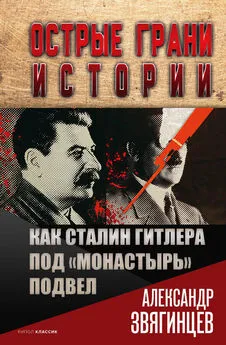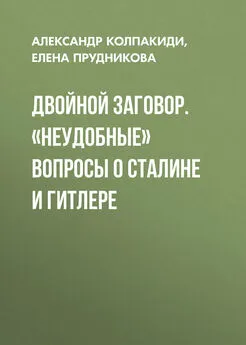Ричард Овери - Сталин и Гитлер
- Название:Сталин и Гитлер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-082961-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Овери - Сталин и Гитлер краткое содержание
Что это были за личности?
Какими были методы их правления?
В чем мораль диктатуры как таковой и к чему она ведет?
На эти и другие наболевшие вопросы отвечает известный британский историк, автор крупных работ по истории Второй мировой войны Ричард Овери.
При сравнение и сопоставление двух режимов Овери рассматривает степень и характер народной поддержки, очаги противостояния и сопротивления, путь к власти каждого из диктаторов и процесс формирования культа личности и т. д.
Сталин и Гитлер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Второй принцип заключался в том, что к закону необходимо было относиться как к инструменту борьбы с врагами общества. Опершись на закон, можно было определить, кто достоин быть включенным в классовое государство или расовое сообщество, а кого необходимо исключить. Концепция Карла Шмидта «свой или чужой» обрела универсальный смысл для всех современных диктатур. Правовая теория в обеих системах была мало озабочена защитой личности от государства, напротив, ее главной заботой была защита общества от преступных личностей и диссидентов. Предатели народа в Германии рассматривались как «самые гнусные из преступников»; юрист Георг Дам считал даже простое воровство предательством по отношению к народу. Уголовные процессы стали вообще рассматриваться как тест на перспективу обвиняемого остаться членом сообщества 121. В Советском Союзе воровство квалифицировалось как политический акт. Постановление «О защите и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятый 7 августа 1932 года, торжественно возвестил о том, что государственная собственность должна быть «священной и нерушимой»; все воры по определению являлись «врагами народа». Максимальное наказание за это деяние предусматривало смерть через расстрел, а минимальное – десять лет лагерей 122. Через два года, в июне 1934 года, в советский Уголовный кодекс была добавлена всеобъемлющая статья «О государственной измене», предусматривавшая обязательную смертную казнь за предательство и пять лет ссылки в Сибирь каждому члену семьи предателя 123. Большое внимание в новом законодательстве в обеих диктатурах уделялось поиску и наказанию «врагов».
Понятие «враг» имело политический смысл: контрреволюционеры в Советском Союзе, враги расы и нации в Германии. Для обеспечения того, чтобы закон применялся к этой категории людей даже в том случае, когда они в действительности не совершают уголовных преступлений, обе законодательные системы ввели принцип «аналогий». Царские суды использовали этот метод для осуждения тех элементов, которые считались социально опасными, но которые не нарушали какую-либо конкретную статью Уголовного кодекса. В этих случаях их деяние квалифицировалось как уголовное по «аналогии». Отмененное в 1917 году, это положение было воскрешено в 1922 году и широко использовалось для осуждения обвиняемых в политических преступлениях в 1930-х годах. Когда Евгения Гинзбург, будучи верным членом партии, была арестована и обвинена в контрреволюционной деятельности в 1937 году, она потребовала от судей сказать ей, какое конкретно преступление она совершила. Растерявшиеся судьи только и могли сказать в ответ: «Вы разве не знаете, что товарищ Киров был убит в Ленинграде?» Однако все ее заявления о том, что она никогда не была в этом городе и что убийство было совершено три года назад, не возымели действия: «Но его убили люди, разделявшие ваши взгляды, следовательно, вы должны разделить и моральную и политическую ответственность с ними» 124. Принцип «аналогии» давал государству почти неограниченные возможности затягивать в юридические сети любого, кого они считали угрозой обществу. В германскую законодательную систему этот принцип был внедрен в июне 1935 года. До этого его применение было специально запрещено в Уголовном кодексе. Откорректированный второй параграф этого кодекса теперь позволял выносить обвинительные приговоры, когда «общераспространенное мнение» полагало то или иное деяние достойным наказания, даже если оно не подпадало под определение незаконного. «Если обнаруживалось, что никакой пункт Уголовного кодекса не может быть применен к рассматриваемому деянию, – говорилось в поправке, – тогда за это деяние предусматривается наказание в соответствии с тем законом, принципы которого в наибольшей степени соответствуют ему. Традиционная юридическая максима, заключавшаяся о том, что не может быть «никакого наказания без закона», была заменена, по словам Карла Шмидта, одобрявшего эту подмену, максимой «не может быть преступления без наказания» 125.
Обе диктатуры практиковали то, что называлось «политической юриспруденцией» 126. Закон был поставлен в зависимость от произвола высших властей государства, однако эта произвольность была замаскирована с помощью иллюзии, что советское и национал-социалистическое право являлись продуктом Высшего суда, представителем которого были эти государства. Высший суд, как они полагали, проистекает, в конечном итоге от воли народа, или «здорового общественного мнения». Эти с юридической точки зрения расплывчатые формулировки были использованы юристами обеих систем как источник легитимизации юридических действий, которые на самом деле ослабляли права личности и общественные перспективы исправления законодательства. Ни та ни другая системы не желали просто, без оговорок, презирать закон. Напротив, моральные основы права были переработаны таким образом, чтобы дать понять общественности, что государственная юридическая практика была именно такой, какая необходима. В обоих обществах разжигались всеобщие (хотя и не универсальные) моральные страсти, восприимчивые к идее о том, что «народное правосудие» всегда означает лучшее правосудие.
Оба режима были уверены в том, что они являются воплощением высшей морали. Причиной такой моральной самонадеянности служил кризис Первой мировой войны. Враждебность по отношению к либеральному мировоззрению была прямым результатом этого конфликта. На завершающей стадии войны у всех появилось глубокое ощущение того, что моральная уверенность предвоенных лет полностью улетучилась, оставив поле битвы для конкурирующих моральных позиций, в котором западный либерализм был одной из многих других разновидностей. «Война, – писал один из германских радикальных националистов, Эрнст Юнгер, – была ударом молота, расколовшим мир на новые части и новые сообщества». Советский Союз вышел из горнила этой войны, убежденный в том, что он является самым прогрессивным государством в мире. Коммунистам казалось, что они олицетворяют триумф последнего угнетенного класса; их новое общество по определению было самым прогрессивным в истории человечества. Именно капитализм, по убеждению Маркса, был ответствен за все недуги мира, и поэтому именно капитализм был аморален по своей самой глубинной сути. Германия вышла из войны, наполненная горечью поражения и уязвленная тем, что почти всеми в мире рассматривалось как несправедливый мир. Существовало глубокое чувство того, что германские ценности подвергаются угрозе со стороны западного либерализма; те достоинства, которые, как полагали, выделяют германскую культуру, рассматривались как морально превосходящие ценности западного мира, навязанные посредством войны. Начав в 1919 году с публикации труда Освальда Шпенглера «Закат Европы», когорта германских интеллектуалов взывала к германской культуре вернуть Европу в свое лоно, взяв лидерство в моральной революции, борющейся против коммунизма и капитализма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: