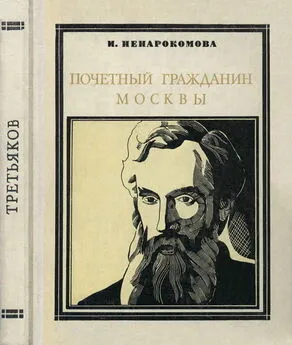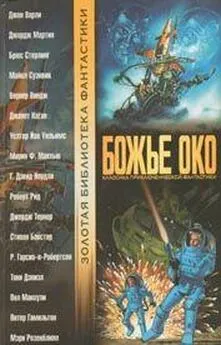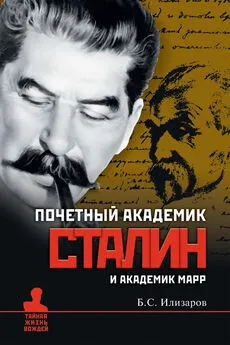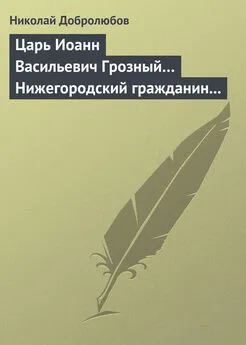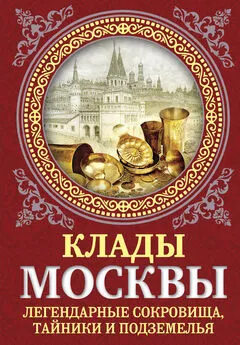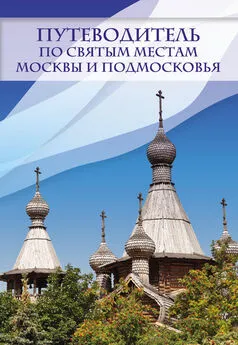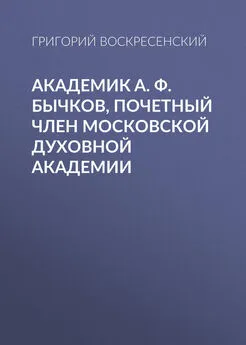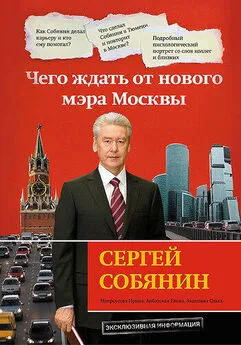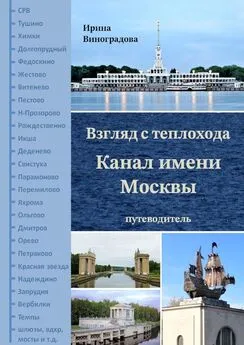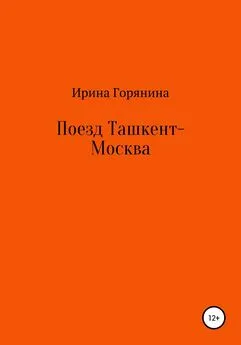Ирина Ненарокомова - Почетный гражданин Москвы
- Название:Почетный гражданин Москвы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Ненарокомова - Почетный гражданин Москвы краткое содержание
Почетный гражданин Москвы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если б купить Прянишниковскую коллекцию, этот «кусочек» истории русской живописи, да продолжить собирание произведениями современного искусства, вот бы и получилась национальная художественная школа, национальная гордость. Взволнованный, он переходил от картины к картине, вглядывался, всматривался, машинально потрагивая бороду.
Наведя осторожно справки, Павел Михайлович узнал, что Прянишников коллекцию свою больше не пополняет, а, напротив, желает продать. Но цена была слишком велика тогда для Третьякова. Прянишников просил 70 тысяч рублей. На такой расход Павел Михайлович не мог еще решиться. Однако желание приобрести собрание не покидало его никогда. Он объявит об этом желании в своем завещании в 1860 году. В 1862 году он будет спрашивать мнение о коллекции у художника Худякова (двенадцать картин из собрания Прянишникова в тот момент находились на выставке в Лондоне) и получит ответ, что в Лондоне есть, «вероятно, вещи, вполне достойные всякой галереи. Есть и из оставшихся картин многие замечательные и в особенности по своему историческому развитию Русской школы». Худяков подтвердит тем самым мысль Павла Михайловича. В 1895 году, за три года до смерти, Третьяков напишет Стасову: «Если б Прянишниковская коллекция соединилась с нашей, я ужасно был бы рад, только Прянишниковская, а не другие, после туда поступившие, некоторые номера очень бы дополнили нашу…»
Несомненно, коллекция Прянишникова подтолкнула Павла Михайловича к собиранию картин именно русской школы. Не сумев купить заинтересовавшее его собрание, Третьяков решил сам начать коллекционировать произведения молодых художников, своих современников, то есть сделать то, что в свое время делал Прянишников. Но надежды заполучить коллекцию директора почтового департамента Павел Михайлович никогда не терял. Не мог он догадаться, что мечта его осуществится спустя много лет после его смерти. (Коллекция Прянишникова влилась в собрание Третьяковской галереи в 1925 году, в составе коллекций Румянцевского музея.)
К тому времени в России был уже не один пример частного собирательства. Покупал картины царь, великие князья, дворянство, покупали многие именитые купцы: Солдатенков, Кокорев, Хлудов, Боткин, Мазурин. Но по продуманности и глубине поставленной перед собой задачи никто не мог равняться с Третьяковым. Третьякову с самого начала его беспримерной деятельности были чужды погоня за модой и соперничество, чуждо всякое меценатство. Уже заказав первую картину, он знал, что в конечном итоге будет коллекционировать не для себя, не для детей своих, а для всего русского народа.
Этой первой заказанной картиной было «Искушение» Шильдера. Приняв решение о собирательстве русской живописи, Павел Михайлович, не откладывая исполнение в долгий ящик, тут же поехал по мастерским знакомиться с художниками. И вот в мастерской Шильдера ему понравилась небольшая, только что начатая картина (а может, даже эскиз), названная «Искушение». Более чем скромная по своему сюжету и художественным достоинствам, сентиментальная картина изображала молодую девушку возле постели умирающей матери, отказывающуюся от браслета, протянутого корыстной сводней. Убогая комната, ожидающий благосклонного ответа кавалер, приславший бессердечную сводню, недоумение и испуг девушки — все это выглядит сегодня несколько наивно и, несмотря на драматическую тему, не больно-то трогает душу. Но Павел Михайлович остановился именно на этом произведении. Он ведь только начинал. И важно, что при начинании его не заинтересовал выспренний или парадный сюжет, а пригляделся он к сцене, хорошо знакомой ему по замоскворецкому быту. Сколько видел он таких сводней (Замоскворечье славилось ими), сколько слышал подобных историй! Особенно же близким показался ему, верно, тон художника, некое моралите в нем звучащее. Оно было сродни его благонравному купеческому воспитанию. Павел Михайлович и сам пописывал нравоучительные стихи и басни. Ему импонировало, что картина как бы призывала девушку «хранить и в бедности оттенок благородства».
Было бы даже странно, если бы первая же купленная им вещь оказалась шедевром. Пройдет время, пока станет точен глаз коллекционера, пока появится особое, по словам Крамского, «какое-то, должно быть, дьявольское чутье», о котором потом будут много говорить.
«Тих и загадочен Третьяков», «загадочная фигура собирателя». Как часто встречаются подобные слова в статьях и воспоминаниях! Порой действительно трудно отрешиться от мысли, что была в нем какая-то загадочная внутренняя сила — рулевой, каждый раз направляющая его по верному руслу. Даже названия обеих картин, открывающей и завершающей его коллекцию, имели символический смысл.
Искушение собрать русскую галерею оказалось таким сильным, что безраздельно взяло в полон молодого купца и владело им до конца его дней. Когда-то самый первый коллекционер русской живописи П. П. Свиньин (лет за тридцать до Третьякова) задался подобной же целью, но, сочтя невозможным выполнение такой задачи одним человеком, распродал собрание. Третьяков окажется тверже. Всю жизнь положит он на осуществление своей мечты. И нет в нем никакой загадки, никакой мистики. Только вера в необходимость и пользу начатого дела, вера в русское искусство да огромная сила характера.
«Все Ваши деяния заслуживают внимания и пример для слабых людей», — напишет уже на второй год его собирательства один из новых друзей, художник Аполлинарий Горавский. Третьякова поняли и приняли сразу. Несмотря на застенчивый, замкнутый нрав, он быстро завоевал любовь и уважение. Отношение к Павлу Михайловичу складывалось доброжелательное, с пониманием значимости его затеи. В тот третий его приезд в Петербург он познакомился не только с Шильдером. Худяков, Аполлинарий и Ипполит Горавские, Сверчков, Соколов, Боголюбов открыли ему двери своих мастерских. Всех покорила серьезность и искренняя заинтересованность молодого собирателя. У Худякова купил Павел Третьяков «Финляндских контрабандистов». Вторая картина, после заказанного «Искушения», тоже была жанровой.
Интересы коллекционера лежали в той же плоскости, что интересы нового художественного поколения, представители которого были, как правило, его ровесниками. Многие из них, ученики и вольнослушатели Академии художеств — разночинцы, приехали в Петербург из отдаленных краев России. «Эти новые люди умели и думать и читать книги, и рассуждать один с другими… и видеть и глубоко чувствовать, что кругом них в жизни творится. Искусство не могло уже для них быть праздным баловством», — скажет позднее Стасов. Слова его с равным успехом можно отнести и к Павлу Михайловичу. Он был им сродни по духу и воспитанию, жил теми же мечтами о русском искусстве, да и читал, наверно, те же книги. В 1855 году вышла диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Ее основные положения шумно обсуждались в художественных мастерских, вызывали бурные споры и бессонные ночи. Третьяков внимательно слушал и, судя по тому, что именно стал собирать, полностью соглашался с молодыми художниками, пропагандировавшими своим творчеством мысли идеолога эпохи Чернышевского: прекрасное есть жизнь, искусство должно заниматься воспроизведением ее, должно выносить приговор над явлениями действительности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: