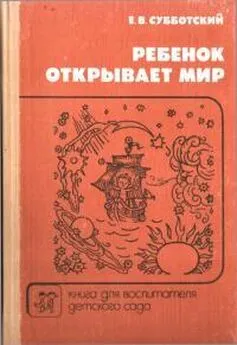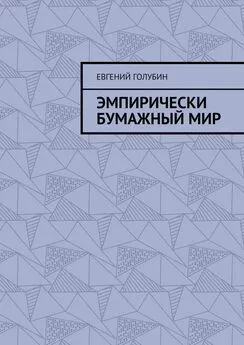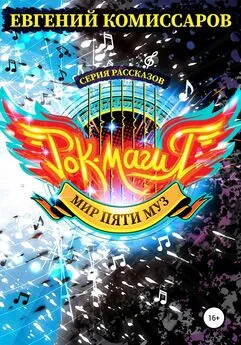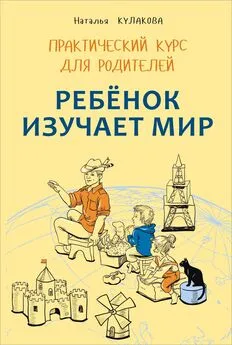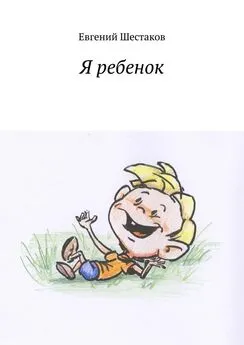Евгений Субботский - Ребенок открывает мир
- Название:Ребенок открывает мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1991
- Город:М
- ISBN:5-09-002817-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Субботский - Ребенок открывает мир краткое содержание
Книга адресована воспитателям детского сада и родителям.
Ребенок открывает мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В других, еще более остроумных опытах этих же ученых испытуемым, у которых было возбуждено чувство вины, предлагали бескорыстно помочь на выбор либо человеку, перед которым они провинились, либо совершенно постороннему лицу. Как вы думаете, кому они помогали охотнее?
«Конечно, тому, перед кем провинились»,— скажете вы. Совсем наоборот: «провинившиеся» испытуемые гораздо охотнее проявляли альтруизм по отношению к постороннему человеку, чем к тому, перед кем они чувствовали вину. Подтверждается житейская мудрость: мы любим человека за то добро, которое сделали ему сами; причиненное же человеку зло делает для нас неприятным дальнейший контакт с ним.
А что, если проверить данное предположение на детях? Тем более что сделать это не так уж сложно. Пригласим малыша, который в наших опытах упорно не желает отдавать марку на благо других и предложим ему поиграть какой-нибудь игрушкой, например электрическим луноходом. Нам, конечно, не составит большого труда сделать так, чтобы во время игры луноход «сломался». Ребенок растерян: ему кажется, что это он испортил игрушку. Но не будем жестокосердны: простим малышу это маленькое «прегрешение» и тут же предложим снова вырезать флажок и распорядиться маркой (взять себе или отдать на выставку).
Что произойдет? Конечно, можно думать и так: у ребенка возникнет чувство вины и малыш, чтобы избавиться от него, будет стремиться проявить альтруизм. Так полагают американские исследователи. Но ведь может произойти и другое. Тут ребенок не проста совершил нарушение — он еще и прощен взрослым. А ведь акт прощения — это акт доброты. Акт бескорыстия со стороны взрослого. Прощая, мы как бы говорим ребенку: «Да, ты совершил ошибку, но я все равно верю в тебя, в то, что ты хороший и добрый человек». Слов много, но в жизни они излишни. Каждый из нас и без слов понимает язык доброты.
А что, если у ребенка, испытавшего прощение, чуть-чуть изменится отношение к себе? «Если взрослый считает меня хорошим, значит, наверное, я и есть такой?» — так можно расшифровать чувства малыша. А раз так, возможно, у ребенка изменится самооценка? Появится подлинный, бескорыстный альтруистический мотив? Какая из гипотез верна? А может быть, верны обе? Одни дети будут восприимчивы к чувству вины, другие — к акту прощения? У одних возникает поведение, лишь внешне похожее на альтруизм, у других — подлинный альтруизм? Проведем опыт.
Ну вот мы и добились своего. Оказывается, теперь многие из бывших эгоистов охотно отдают марку на общее благо. Казалось бы, гипотеза подтверждается: альтруизм есть не что иное, как желание отплатить добром за причиненный ущерб.
И все же мы, чувствуем: что-то не так. Кто-то слишком уж ярко демонстрирует свой альтруизм, слишком громко кричит, выходя из комнаты: «Я марку в коробочку опустил!»; «Я на выставку отдал!». А ведь истинный альтруизм не нуждается в афишировании, подлинному благородству чужда реклама. Кто-то уходит молча, не обращая на взрослого внимания. Придется, наверное, поглубже проверить наших новоиспеченных альтруистов.
Давайте немного изменим наш опыт: пусть дети «ломают» игрушку, но мы перестанем замечать поломку и вновь предложим им испытание на альтруизм. Но что это? Дети, афишировавшие свой альтруизм, снова забирают марку себе. Те же, которые уходили, ничего не сказав взрослому, опять опускают ее в коробочку. Вот он и проявился: двойной эффект нашего воспитательного воздействия. На одних детей акт прощения проступка оказал возвышающее действие — у них возник подлинный, бескорыстный альтруистический мотив. У других этого не произошло. Они просто стремились отплатить взрослому за причиненный ущерб, восстановить хорошее мнение о себе. Опуская марку в коробочку, ребенок не забывал поставить об этом в известность взрослого. Когда же тот «не замечал» ущерба, прагматический альтруизм исчезал, подлинный оставался.
А теперь вспомним «хитрый» опыт Уоллеса и Садалла. Они тоже решили прозондировать подлинность альтруистических чувств у своих испытуемых: теперь, войдя в комнату, экспериментатор «не замечал» сломанного прибора, а просто предлагал участвовать в опытах с болевым наказанием. Оказалось, что никакого повышения альтруизма не наблюдается.
Вот теперь нам все ясно: иногда можно найти альтруизм там, где его на самом деле нет и в помине. Это просто желание отдать долг за причиненный ущерб; если же ущерб остается необнаруженным, платить долг никто не хочет. Какое уж тут бескорыстие! Просто поведение по принципу «ты — мне, я — тебе».
Теперь мы знаем, что есть альтруизм подлинный, бескорыстный, а есть мнимый, прагматический, и можем критически оценить разные теории альтруизма.
Ну что вы скажете, например, если вас будут убеждать в существовании альтруизма у... животных? Вам приведут примеры взаимопомощи и взаимозащиты, заботы о больных и раненых сородичах у обезьян, примеры «дружбы» у дельфинов, «самопожертвования» у муравьев. А крик предупреждения об опасности, который издают птицы при приближении врага? Разве это не альтруизм? Разве птица не обращает при этом внимание врага на себя, не жертвует собой ради спасения стаи?
Но это что! Вам сошлются на тщательно проведенные эксперименты с использованием всего арсенала научных средств. Вот, например, опыты американцев Эванса и Брауда. Представьте себе небольшой лабиринт в виде буквы Т, в каждом ответвлении которого стоит чашка со сладкой водой. Крыса, пущенная в лабиринт, устремляясь к лакомству, мечется то направо, то налево, пока не осушит обе чашки. А теперь в конце одного из ходов сделаем стеклянную клетку, поместим в нее другую крысу и будем бить слабым током зверька всякий раз, когда крыса-лакомка побежит в этот ход пить воду. Та, конечно, замечает страдания сородича: сначала пьет воду с аппетитом, а затем заглядывает сюда все реже и реже, явно предпочитая не причинять боль другому животному. Даже ценой отказа от лакомства.
А вот опыты американцев Массермана и Вечкина с обезьянами. Животное помещали в клетку с двумя лампочками и двумя цепочками. Обезьяна быстро усваивала: если загорится красная лампочка, тяни за левую цепь, получишь банан; загорится синяя лампочка, тяни за правую цепь, тоже полакомишься. Но вот в соседнюю клетку помещают другую обезьяну, получающую удар током всякий раз, когда первое животное тянет за правую цепь. Ну что за удовольствие от банана, если рядом твой сородич кричит от боли? Постепенно лакомка вообще перестала дергать за правую цепь и использовала только левую, не опасную для партнера. Итак, обезьяна скорее будет голодать, чем получать пищу за счет страданий сородича. Разве это не альтруизм?
И трудно было бы нам возразить, если бы наше «счастливое» заблуждение не привело нас к открытию мнимого альтруизма. Ну конечно, это он, наш старый знакомый. Ведь животное само испытывает неприятное чувство при виде страданий соплеменника, и это чувство — врожденное. Животному и приходится «откупаться» от него отказом от еды, так же как испытуемые Уоллеса и Садалла откупались от чувства вины согласием участвовать в опытах с болевым наказанием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: