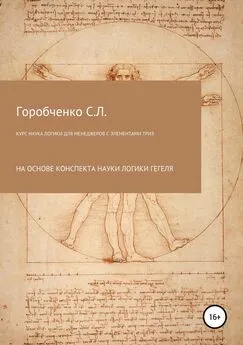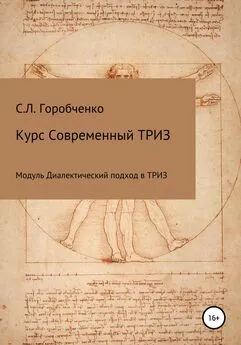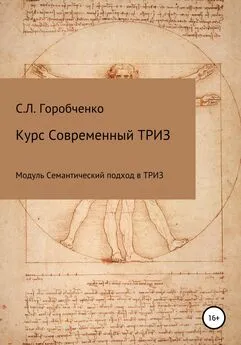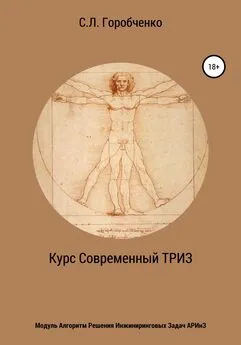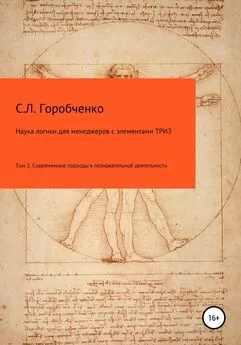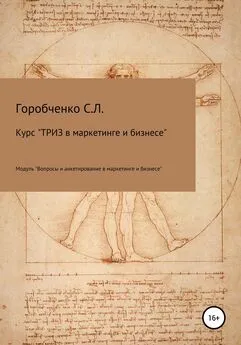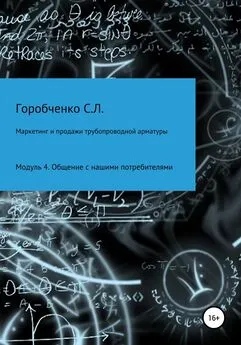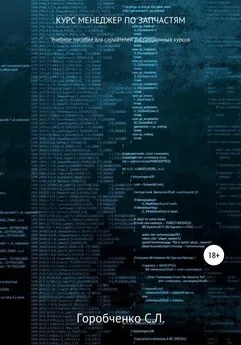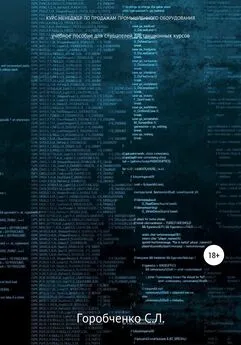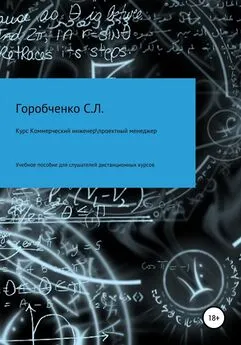Станислав Горобченко - Курс Наука логики для менеджеров с элементами ТРИЗ
- Название:Курс Наука логики для менеджеров с элементами ТРИЗ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Горобченко - Курс Наука логики для менеджеров с элементами ТРИЗ краткое содержание
Курс Наука логики для менеджеров с элементами ТРИЗ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ирония эта особого свойства – не остроумная игра словами, не простое вывертывание наизнанку «привычных значений» слов, ничего не меняющее в существе понимания. Тут не термины меняются на обратные, а те явления, которые ими обозначаются, вдруг оказываются в ходе их рассмотрения совсем не такими, какими их привыкли видеть, и острие иронии поражает как раз «привычное» словоупотребление, обнаруживает, что именно «привычное» и вполне бездумное употребление терминов (в данном случае слова «абстрактное») является несуразным, не соответствующим сути дела. А то, что казалось лишь «ироническим парадоксом», обнаруживает себя, напротив, как совершенно точное выражение этой сути.
Это и есть диалектическая ирония, выражающая в словесном плане, вполне объективный процесс превращения вещи в свою собственную противоположность. Процесс, в ходе которого все знаки вдруг меняются на обратные, а мышление неожиданно для себя приходит к выводу, прямо противоречащему его исходному пункту.
Душой этой своеобразной иронии является не легковесное остроумие, не лингвистическая ловкость в обыгрывании эпитетов, а всем известное «коварство» реального течения жизни. Самые добрые намерения, преломившись через призму условий их осуществления, зачастую оборачиваются злом и бедой, но бывает и наоборот, когда проявляются «силы отрицания».
Это та самая нешуточная закономерность, которую Маркс вслед за Гегелем любил называть «иронией истории», – «неизбежной судьбой всех исторических движений, участники которых имеют смутное представление о причинах и условиях их существования и потому ставят перед ними чисто иллюзорные цели». Эта ирония всегда выступает как неожиданное возмездие за невежество, за неведение. Когда такое случается с первопроходцами – это трагедия. Человеку всегда приходилось дорого платить за познание. Но когда жертвами этой неумолимой иронии становятся люди, не умеющие и не желающие считаться с опытом, – их судьба обретает характер трагикомический, ибо наказанию тут подвергается уже не невежество, а глуповатое самомнение…
Торговка бранится без претензий на «философское» значение своих словоизвержений. Она и слыхом не слыхивала про такие словечки, как «абстрактное». Философия поэтому тоже к ней никаких претензий не имеет. Другое дело – «образованный читатель», который усмехается, усмотрев «иронию» в квалификации ее мышления как «абстрактного», – это-де все равно, что назвать бессильного Самсоном…
Усмотрев тут лишь «игру слов", "литературный прием», образованный читатель с головой выдал себя, обнаружив полную неосведомленность в той области, где он считает себя знатоком, – в области философии как науки. Тут ведь каждый «образованный человек» считает себя знатоком.
«Относительно других наук считается, что требуется изучение для того, чтобы знать их, и что лишь такое знание дает право судить о них. Соглашаются также, что для того, чтобы изготовить башмак, нужно изучить сапожное дело и упражняться в нем, хотя каждый человек имеет в своей ноге мерку для этого, имеет руки и благодаря им требуемую для данного дела природную ловкость. Только для философствования не требуется такого рода изучения и труда»,
– иронизирует по адресу таких знатоков Гегель. Такой знаток и обнаружил тут, что слово «абстрактное» он знает, а вот относительно той коварной диалектики, которую философия давно выявила в составе названной категории явлений, даже смутного представления не имеет. Потому-то он и увидел шутку там, где Гегель вовсе не шутит, там, где он разоблачает утую пустоту «привычных» представлений, за пределы которых никогда не выходит претенциозная полуобразованность, мнимая образованность, весь багаж которой и заключается всего-навсего в умении употреблять ученые словечки так, как принято в «порядочном обществе»…
Такой «образованный читатель» – не редкость и в наши дни. Обитая в уютном мирке шаблонных представлений, с которыми он сросся, как с собственной кожей, он всегда испытывает раздражение, когда наука показывает ему, что вещи на самом-то деле совсем не таковы, какими они ему кажутся. Себя он всегда считает поборником «здравого смысла», а в диалектике не видит ничего, кроме злокозненной наклонности «выворачивать наизнанку» обычные, «общепринятые» значения слов. В диалектическом мышлении он видит одно лишь «неоднозначное и нестрогое употребление терминов», искусство жонглировать словами с противоположным значением – софистику двусмысленности. Так, мол, и тут – Гегель употребляет слова не так, как это «принято» – называет «абстрактным» то, что все здравомыслящие люди именуют «конкретным» и наоборот.
«Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», ибо истина – это не «отчеканенная монета», которую остается только положить в карман, чтобы при случае ее оттуда вытаскивать и прикладывать как готовую мерку к единичным вещам и явлениям, наклеивая ее, как ярлык, на чувственно-данное многообразие мира, на созерцаемые «объекты».
Истина заключается вовсе не в голых «результатах», а в непрекращающемся процессе все более глубокого, все более расчлененного на детали, все более «конкретного» постижения существа дела. А «существо дела» нигде и никогда не состоит в простой «одинаковости», в «тождественности» вещей и явлений друг другу. И искать это «существо дела» – значит тщательно прослеживать переходы, превращения одних строго зафиксированных (в том числе словесно) явлений в другие, в конце концов, в прямо противоположные исходным. Действительная «всеобщность», связующая воедино, в составе некоторого «целого», два или более явления (вещи, события и т.д.), таится вовсе не в их одинаковости друг другу, а в необходимости превращения каждой вещи в ее собственную противоположность. В том, что такие два явления как бы «дополняют» одно другое «до целого», поскольку каждое из них содержит такой «признак», которого другому как раз недостает, а «целое» всегда оказывается единством взаимоисключающих – и одновременно взаимопредполагающих – сторон, моментов. Отсюда и логический принцип мышления, который Гегель выдвинул против всей прежней логики:
«Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения».
Это тоже звучало и звучит до сих пор достаточно парадоксально. Но что поделаешь, если сама реальная жизнь развивается через «парадоксы»?И если принять все это во внимание, то сразу же начинает выглядеть по-иному и проблема «абстракции».
«Абстрактное» как таковое (как «общее», как «одинаковое», зафиксированное в слове, в виде «общепринятого значения термина» или в серии таких терминов) само по себе ни хорошо, ни плохо. Как таковое оно с одинаковой легкостью может выражать и ум, и глупость. В одном случае «абстрактное» оказывается могущественнейшим средством анализа конкретной действительности, а в другом – непроницаемой ширмой, загораживающей эту же самую действительность. В одном случае оно оказывается формой понимания вещей, а в другом – средством умерщвления интеллекта, средством его порабощения словесными штампами. И эту двойственную, диалектически-коварную природу «абстрактного» надо всегда учитывать, надо всегда иметь в виду, чтобы не попасть в неожиданную ловушку…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: