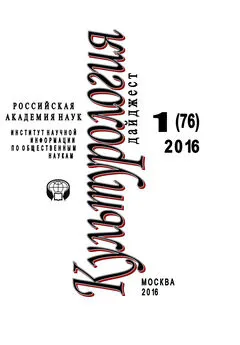Ирина Галинская - Культурология. Дайджест №1 / 2016
- Название:Культурология. Дайджест №1 / 2016
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галинская - Культурология. Дайджест №1 / 2016 краткое содержание
Культурология. Дайджест №1 / 2016 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сугияма критикует позиции П. Дейла и М. Миллера 7 7 См.: Dale P. Op. cit.; Miller M. Japan’s Modern Myth. – New York; Tokyo, 1981.
, выносящих свои оценочные суждения, следуя собственным установкам, которые они считают абсолютно правильными 8 8 Sugiyama-Lebra T. The Japanese Self in Cultural Logic. – Honolulu, 2004. – P. 276–278.
. В работах японских ученых эти западные авторы видят проявление шовинизма там, где подчеркивается, к примеру, специфика природной среды, в условиях которой формировалась национальная японская культура, или специфика японских этических идеалов долга и искренности. В частности, Дeйл совершенно справедливо указывает, что поиски национальной специфики завели правящие милитаристские круги Японии в 30–40-е годы в ситуацию извлечения из пыльных сундуков истории в качестве эмоциональных пропагандистских образов концепции «священного тела государства» ( ко-кутай ) и «национальной сущности» ( кокусуй ) 9 9 Dale P. Op. cit. – P. 49.
. На их основании Министерством образования в 1937 г. был скомпилирован один из основных текстов японского милитаризма – «Кокутай-но хонги» 10 10 Автором первоначального варианта концепции «кокутай» считается Аид-зава Сэйсисай (1782–1863), представитель конфуцианской школы Мито, использовавший этот термин для обозначения японской формы теократии, воплощенной в вечной императорской династии, ведущей начало от богини солнца Аматэрасу. В «Новой теории» ( Синрон , 1825) он ратовал за возвращение реальной власти императору, являвшемуся главным синтоистским жрецом страны. Воскресший из океана забвения документ 1937 г. был «составлен в лучших традициях текстов такого рода: напыщенно, тавтологично, с прямым и скрытым цитированием древних китайских и японских источников» ( Мещеряков А.Н. Цит. соч. – С. 251).
( Сущность государственного тела ) – с целью внушить японцам идею «провести операцию самоотождествления прежде всего через переживание слиянности со своим императором» 11 11 Там же. – С. 254.
. Это был обязательный документ прежде всего для чиновников всех уровней, занимавшихся наглядной агитацией и пропагандой: рекламой, кинопродукцией, радиопередачами, газетными и журнальными публикациями и т.д.
Что касается националистической пропаганды, резко усилившейся в период военных действий, то американский военный историк Дж. Дауэр, автор подробнейших исследований Тихоокеанской войны и ее идеологического и пропагандистского сопровождения с обеих воюющих сторон 12 12 Dower J. Ambracing Defeat. Japan in the Wake of World War II. – New York: Norton, 1986.
, утверждал, что дегуманизация врага (а это – работа главным образом пропагандистской машины, создающей эмоциональный образ угрожающего твоему дому нелюдя) была главной задачей пропаганды: «Чтобы понять, как именно расизм определял поведение во время Азиатской войны, следует выйти за рамки письменных документов и рапортов с фронтов, на которые главным образом опираются историки, и привлечь такие материалы, как песни, кинофильмы, мультфильмы и огромное количество популярной литературы того времени. Но помимо всего этого, перед нами стоит проблема объяснить, как презрение и ненависть могли распространиться так легко» 13 13 Dower J. Op. cit. – P. X.
. Самый главный элемент в националистической пропаганде, считает он, – эмоциональный. Такой элемент являлся продуктом политтехнологий, работавших повсеместно, не только в Японии, фашистской Германии или в СССР, но и в США, подвергавших даже своих граждан расовой сегрегации во время войны. Америка «продемонстрировала грубые предрассудки, воспламенялась расовой гордыней, предубеждениями и многоаспектным гневом» 14 14 Ibid. – P. 4.
, который «облегчал принятие решений, делавших мишенью массированных атак мирное население, будь то обычное или ядерное оружие» 15 15 Ibid. – P. 11.
. Пропагандистские машины Японии и Америки не отставали друг от друга в навешивании на противника ярлыка «зверя».
Таким образом, Дейл критикует теории японской идентичности за «псевдонаучность» и «гипостазирование», т.е. приписывание сугубо ментальным конструкциям статуса реальности 16 16 Теория культуры тем не менее считает реальными все те вещи, существование которых отрицает Дейл. Выдающийся американский антрополог Л.А. Уайт (1900–1975) рассуждает по этому поводу, приводя пример с математическими абстракциями, онтологический статус которых не определен, но культурный статус – реален: «Следующие предложения, хотя на первый взгляд противоположны друг другу, все же одинаково верны: 1) “математические истины имеют существование и действительность, независимые от человеческого ума”, и 2) “математические истины не имеют существования или действительности отдельно от человеческого ума” (…) Математические истины существуют в культурной традиции, в которую, едва родившись, включается индивид, и, таким образом, поступают в его сознание извне». То же – со сказочными и мифологическими персонажами, с понятиями, существующими в данной культурной традиции. «Нас интересует не вопрос “реальны ли эти вещи?”, а вопрос “где место их реальности?”» [ Уайт Л.А. Место математической реальности // Антология исследований культуры. Символическое поле культуры. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2011. – С. 191]. К примеру, нелепо отрицать тот факт, что такие отвлеченные понятия, как «моно-но аварэ», «амаэ» и даже «кокутай», несомненно, обладают в японской культуре по-настоящему реальным статусом.
. В то же время сам он грешит подменой понятий: так, термин миндзокутэки – «народный», «национальный» он трактует как «расовый» 17 17 Dale Р. Op. cit. – P. 21.
, называет эстетическую категорию моно-но аварэ (очарование вещей) «ключевым понятием в культурной идеологии японского национализма» 18 18 Ibid. – P. 23.
, а суждения теоретиков японской идентичности о специфике японской культуры называет «одержимостью» 19 19 Ibid. – P. 67.
. Более того, научно-теоретические изыскания по определению японской идентичности он считает более опасной формой национализма, чем открытая пропаганда шовинизма в Японии 1930–1940 гг. 20 20 Ibid. – P. 17.
Нельзя не согласиться с проф. Сугиямой, что такой упрощенческий и тенденциозный подход к теориям японской культурной идентичности должен остаться в прошлом.
Зачастую «виновниками» неадекватных суждений в данном случае выступают приверженцы дихотомического подхода в культурологической компаративистике. Для наглядности проиллюстрируем дихотомический подход таблицей, которую опубликовал отечественный ученый М.Н. Корнилов, подробно исследовавший содержание и методологию теорий специфики японской культуры 21 21 Корнилов М.Н. О типологии японской культуры (японская культура в теориях «Нихондзин-рон» и «Нихон бунка-рон») // Япония: Культура и общество в эпоху НТР. – М.: Наука, 1985. – С. 25.
:
Интервал:
Закладка: