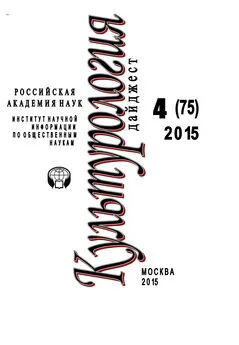Ирина Галинская - Культурология. Дайджест №4 / 2015
- Название:Культурология. Дайджест №4 / 2015
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галинская - Культурология. Дайджест №4 / 2015 краткое содержание
Культурология. Дайджест №4 / 2015 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Очевидно, что героев официальной культуры, носителей жизнеутверждающих принципов в сознании россиян сейчас нет. Современная российская власть оказалась не в состоянии их создать. Видимо потому, что высоких принципов, привлекательного социального идеала нет у самой нынешней власти. Но в отсутствие настоящих героев, выражающих собою активный нравственный смысл, появляются актуальные идеологические суррогаты. Социологический мониторинг последних лет показывает, что приоритетными сферами деятельности для россиян, в том числе для молодежи, являются государственная служба и бизнес. То есть героями нашего времени стали чиновник и бизнесмен. При этом оба этих персонажа в глазах россиян безусловно выглядят отрицательными.
Бедность социометрического пейзажа, вероятно, свидетельствует о том, что российское общество существует сейчас в транзитном, этнически-расплывчатом состоянии. «Сообщество россиян» представляет собой не нацию, а некий неопределенный материал, не имеющий внутренне согласованной структуры.
Данный факт подтверждается и отсутствием базовой аватары. Что собой представляет современный россиянин, не может сказать никто. Никто также не может сказать, каков его социокультурный канон – типовые поведенческие черты, в совокупности составляющие «российскость». Более того, анализ текущей национальной реальности практически однозначно указывает, что в нашей стране возникает сейчас отнюдь не российская, а сугубо русская идентичность, и, соответственно, формируется не российская, а русская базовая аватара, обладающая следующими основными характеристиками. Во‐первых, это этническое православие: русский – значит обязательно православный, а не православный – значит уже не русский. Во‐вторых, это патриотический милитаризм, т.е. патриотизм, понимаемый почти как военное дело. Гражданская, созидательная составляющая патриотизма обычно во внимание не принимается.
С другой стороны, множество «настоящих героев» начинает выдвигать российская контркультура. Масштаб их деятельности невелик, но все они провозглашают высокие принципы, и все они, по крайней мере декларативно, готовы на жертвы ради претворения этих принципов в жизнь.
Налицо явная мировоззренческая асимметрия. Героев, утверждающих реальность, в сознании российского общества сейчас нет, наличествуют только антигерои. Зато герои, отвергающие реальность, видимо, подлинные герои нашего времени, возникают один за другим.
Мировоззренческая ассиметрия – очень показательный признак. В конце ХIХ – начале ХХ в. герои официальной культуры в России также отсутствовали. Тогдашняя царская власть оказалась не в состоянии их создать. В сознании российского общества, по крайней мере части его, в сознании деятельности «пассионарного меньшинства» доминировали имена героев политической контркультуры – Андрей Желябов, Софья Перовская, Вера Засулич и др.
Аналогичная ситуация сложилась и в СССР к началу 1980‐х годов. Как ни пыталась тогдашняя советская власть создать официальных героев, например из строителей БАМа, ей это не удалось. Однако имена Александра Солженицына и академика Сахарова знали все. В первом случае последовала Февральская революция, обрушившая царскую власть, во втором – перестройка, которая также революционным путем разрушила застойную социалистическую реальность. Такова закономерность.
Т.А. ФетисоваСоциология культуры
Воображаемый Запад: пространства вненаходимости позднего социализма 6 6 Юрчак А. Воображаемый Запад: Пространства вненаходимости позднего социализма // Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское поколение. – М.: Новое лит. обозрение, 2014. – С. 311–403.
Советское понятие «заграница» уникально: «Оно обозначает – не границу и не реальную территорию, а воображаемое пространство – одновременно реальное и абстрактное, знакомое и недосягаемое, обыденное и экзотическое, находящееся и здесь , и там » (с. 312). В этом парадоксальном понятии отразилось необычное сочетание интернациональности и изолированности советской культуры. С одной стороны, коммунистическая идея предполагала принадлежность советских людей ко всему человечеству. Определенная открытость миру подтверждалась также вполне реальной многокультурностью понятия «советский». С другой стороны, столкнуться напрямую с иностранцами, особенно «западными», у советского человека не было практически никакой возможности. «Архетипом заграницы был “Запад”, который тоже был феноменом советского производства и мог существовать лишь до тех пор, пока реальный западный мир оставался для большинства советских людей недостижимым» (с. 314).
Пространство воображаемого Запада не следует сводить к пространству оппозиции советскому государству. «Большинство “несоветских” эстетических форм, материальных артефактов и языковых образов, которые способствовали формированию воображаемого Запада, появилось в советской жизни не вопреки государству, а во многом благодаря его парадоксальной идеологии и непоследовательной культурной политике» (с. 314).
Присутствие в советской повседневности иных миров выразилось в 1960‐х годах в колоссальном росте интереса к фактам, знаниям и видам деятельности, которые создавали ощущение удаленности от повседневного существования: занятия иностранными языками и восточной философией, чтение средневековой поэзии и романов Хемингуэя, увлечение астрономией и научной фантастикой, слушание авангардного джаза и песен про пиратов, увлечение альпинизмом, геологическими экспедициями и турпоходами.
Воображаемый Запад существовал «одновременно внутри и за пределами советской системы, в отношениях вненаходимости к ней»; «именно посредством такого самовосприятия – одновременно изнутри и вовне советской системы – формировался советский субъект позднего социализма» (с. 316, 317).
Советское государство всегда различало приемлемые и неприемлемые формы западной культуры и постоянно пыталось провести границу между ними. Однако делалось это крайне непоследовательно, в чем отразились объективные противоречия самой природы социализма. Так, в сентябре 1961 г. Хрущёв на выставке в Сокольниках публично высмеял абстрактное искусство Пикассо. Генсеку вторила советская пресса. Однако менее чем через год, в мае 1962 г., ЦК КПСС назвал Пикассо великим прогрессивным художником-коммунистом и удостоил его Ленинской премии мира.
Для большинства любителей американского джаза он был не символом капитализма или буржуазных ценностей, а символом оптимизма и веры в будущее, которые в принципе укладывались в нормальные ценности социалистического общества. Аналогично парадоксальное отношение сформировалось чуть позже к англо-американской рок-музыке: большинство советских любителей рок-музыки не воспринимали ее как нечто несовместимое с советской жизнью и моралью; любовь к рок-музыке могла сочетаться с самыми разными убеждениями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: