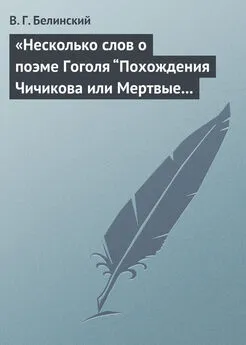Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
- Название:Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Московского университета
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-211-05478-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» краткое содержание
Пособие содержит последовательный анализ текста поэмы по главам, объяснение вышедших из употребления слов и наименований, истолкование авторской позиции, особенностей повествования и стиля, сопоставление первого и второго томов поэмы. Привлекаются также произведения, над которыми Н. В. Гоголь работал одновременно с «Мертвыми душами» — «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Авторская исповедь».
Для учителей школ, гимназий и лицеев, старшеклассников, абитуриентов, студентов, преподавателей вузов и всех почитателей русской литературной классики.
Summary E. I. Annenkova. A Guide to N. V. Gogol’s Poem ‘Dead Souls’: a manual. Moscow: Moscow University Press, 2010. — (The School for Thoughtful Reading Series).
The manual contains consecutive analysis of the text of the poem according to chapters, explanation of words, names and titles no longer in circulation, interpretation of the author’s standpoint, peculiarities of narrative and style, contrastive study of the first and the second volumes of the poem. Works at which N. V. Gogol was working simultaneously with ‘Dead Souls’ — ‘Selected Passages from Correspondence with his Friends’ and ‘The Author’s Confession’ — are also brought into the picture.
For teachers of schools, lyceums and gymnasia, students and professors of higher educational establishments, high school pupils, school-leavers taking university entrance exams and all the lovers of Russian literary classics.
Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гоголевский герой и передает (правда, в достаточно специфическом виде) атмосферу этого времени, уходящую в прошлое, и одновременно утрирует, невольно снижает ее, хотя и не компрометирует. В речи Манилова — устойчивые для культурно-бытового контекста начала XIX в. понятия: «деревня», «уединение», «сердечное влечение», «магнетизм души». Жанр дружеского послания поэтизировал уединенную деревенскую жизнь, наполненную творчеством, дружеским общением, любовью; эта жизнь противопоставлялась светской, столичной, тем более официозной Вот и Манилов мечтает, «как было бы в самом деле хорошо если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь углубиться!..» (VI, 37). Правда, в отличие от современников писателя, гоголевский герой никаким углубленным размышлениям не предается. Однако и ему дано почувствовать «какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение» Манилов смешон, но по-своему и трагичен. Уже в этой главе достаточно рельефно проступает гоголевский принцип изображения человека, о котором вскользь говорилось; в человеке видится пошлость и пустота, никчемность, телесность, но одновременно — искаженное и подчас едва заметное — человеческое чувство, потребность в ином самоосуществлении. Можно видеть, что даже иронизируя над героем, автор не стремится его принизить. После того как Манилов уже достаточно определенно охарактеризован («От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета» — VI, 24) и в подтверждение высказанной оценки предлагается рассуждение о «задорах» («У всякого есть свой задор… но у Манилова ничего не было» — там же), выясняется, что отсутствие задора можно интерпретировать двояко. Нужно бы иметь хотя бы какой-нибудь задор, но на фоне задоров перечисленных (у одного задор «обратился на борзых собак», другой «мастер лихо пообедать», третий мечтает, как бы пройтись «с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям» и т. д.), может быть и хорошо не иметь никакого задора.
Манилов — как мягкая глина, из которой можно было бы нечто привлекательное вылепить, но нет уверенности что подобное «творение» сохранится, не утратит приданную ему форму. Манилов лишен энергии жизни. И он сам и его имение олицетворяют статичность, неизменность существования, чреватую мертвенным покоем. Ю. В. Манн в свое время отметил, что Чичиков отправляется делать визиты помещикам в «шинели на больших медведях», т. е на медвежьем меху, затем видит мужиков, сидящих в «овчиных тулупах». Когда же он добирается до Манилова, то взору его открывается «покатость горы», одетая «подстриженным дерном», «две-три клумбы» с кустами сирени, пруд, покрытый зеленью, — т. е. вполне летний пейзаж. «В то время как во всем мире времена года циклично сменяют одно другое, — замечает современный исследователь, — в пространстве Манилова царит вечное идиллическое время» [19] Музалевский М. Е. К вопросу о цикличности художественного пространства-времени в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя //Литература и журналистика. Саратов, 2000. С. 44.
.
В этот мир, окрашенный в идиллические тона, и является Чичиков, цель поездок которого пока еще неизвестна читателю. Автор прибегает к важной для него дефиниции «предприятия» своего героя: в голосе Чичикова, еще только собирающегося изложить просьбу, «отдалось какое-то странное или почти странное выражение… Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши» (VI, 32, 34).
Странность, однако, заключается и в том, что как ни изумился Манилов и даже «остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут» (VI, 34), он все же, узнав, что подобная «негоция» (т. е. торговая сделка) не окажется «несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России» (VI, 35), «совершенно успокоился» (VI, 36). Даже авантюрист Чичиков опасался, что его просьба не будет принята (перед тем как ее предложить, «он даже покраснел», «в лице его показалось какое-то напряженное выражение»), но странность сего «предприятия» не насторожила в должной мере его собеседника. А далее, в последующих главах, Чичикову уже не пришлось опасаться, что его просьба вызовет изумление. Поданная в соответствующей форме, приятной для собеседника или задевающей определенные струны у кого сердца, у кого — разума, просьба Павла Ивановича никому не кажется странной, разве что Коробочке («товар такой странный, совсем небывалый» — VI, 54), да и ее заботит прежде всего незнание, сколько можно запросить за мертвые души, вдруг окажется, что «они больше как-нибудь стоят». Однако и ее Чичикову удается уговорить.
«Предприятие» Чичикова располагается на границе необычного, странного и обыденного. В российской действительности факт покупки мертвых душ, т. е. оформление покупки крестьян, уже умерших, но в качестве таковых еще не записанных в ревизскую сказку, хотя и не часто, но встречался. В крепостнической России с начала XVIII века проводились регулярные переписи крестьян. Составленные при ревизии списки именовались ревизскими сказками. Ревизия проводилась один раз в 7—10 лет, чтобы определить подушную подать, которая взималась по числу мужчин-крепостных. Внесенные в списки крестьяне именовались «ревизскими душами», и число их считалось неизменным до следующей переписи. Это создавало почву для определенных спекуляций. Родственница Гоголя М. Г. Анисимо-Яновская вспоминала о своем дяде Х. П. Пивинском, который внес за умерших крестьян оброк и прикупил мертвых душ, чтобы не запретили держать винокурню. Поэтому и в «Мертвых душах» зарождение чичиковской идеи происходит достаточно обыденно. В главе XI Чичиков, в качестве поверенного, раздумывает, как осуществить заклад в казну имения; трудность заключается в том, что «половина крестьян вымерла», на что секретарь, узнав, что они еще числятся по ревизской сказке, замечает: «Ну, так чего же вы оробели? <���…> один умер, другой родится, а все в дело годится» (VI, 239).
Вместе с тем подобная «негоция» была не только незаконной, но и неэтичной. Чичиков рассчитывает не просто совершить данную акцию единожды, а, задумав эту аферу, разбогатеть. В слове «предприятие», употребляемом в тексте, можно уловить авторскую иронию, но для героя это действительно предприятие: он долго вынашивал идею, тщательно готовился к ее осуществлению. Чичикова заботит только практическая сторона вопроса: отыскать помещиков, у которых в последние годы умирало немало крестьян, и подешевле или даже бесплатно их заполучить. Сторона метафизическая, философская и нравственная его не беспокоит. Автор не случайно столь многократно употребляет слова «странный», «странное». С общечеловеческой точки зрения, деяние Чичикова по меньшей мере странно, и это сочетание в одном действии странного и почти ординарного привлекало Гоголя, скорее всего, потому, что давало возможность обнаружить скрытые пружины жизни, а также испытать человека: как он отзовется на странное «предприятие» Чичикова — удивится или примет как должное, опротестует или согласится и отыщет для себя выгоду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: